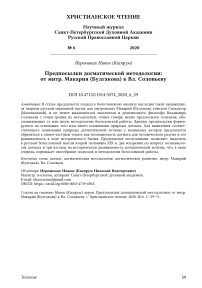Предпосылки догматической методологии: от митр. Макария (Булгакова) к Вл. Соловьеву
Автор: Касярум Николай Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 6 (95), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается подход к богословскому анализу наследия таких выдающихся творцов русской церковной науки, как митрополит Макарий (Булгаков), епископ Сильвестр (Малеванский), и не менее выдающегося мыслителя и религиозного философа Владимира Соловьева с точки зрения их методологии, точнее говоря, неких предпосылок сознания, обосновывающих ту или иную методологию богословской работы. Данные предпосылки формируются на основании того или иного понимания природы догмата. Для выявления соответствующего понимания природы догматической истины у названных авторов предлагается обратиться к таким частным темам, как познаваемость догмата для человеческого разума и его развиваемость в ходе исторического бытия. Проделанное исследование позволяет выделить в русской богословской мысли второй половины XIX в. два воззрения по вопросу познаваемости догмата и три взгляда на историческую развиваемость догматической истины, что, в свою очередь, порождает своеобразие подходов и методологии богословской работы.
Догмат, догматическая методология, догматическое развитие, митр. макарий (булгаков), вл. соловьев
Короткий адрес: https://sciup.org/140250838
IDR: 140250838 | DOI: 10.47132/1814-5574_2020_6_59
Текст научной статьи Предпосылки догматической методологии: от митр. Макария (Булгакова) к Вл. Соловьеву
Master of ^eology, Graduate Student at St. Petersburg ^eological Academy.
Методология какого-либо исследователя или конкретной школы так или иначе имеет под собой некоторые общие предпосылки, a priori принятые убеждения ученого относительно природы исследуемого предмета и, в самом общем смысле, относительно возможностей человеческого познания и понятия о бытии как таковом.
В данном исследовании нас интересуют убеждения некоторых выдающихся богословов втор. пол. XIX в. касательно природы Божественного Откровения и, в частности, догмата. Вопрос о природе догмата традиционно для догматического богословия начинается с выделения некоторых существенных свойств догмата (теологичность, богооткровенность, церковность, общеобязательность и др., можно также выделить и сотериологичность). Эти свойства многое проясняют в понятии о догмате, позволяют отличить догматическую истину от любого другого знания. Однако если задаться вопросом о восприятии догматической истины познающим человеческим умом, то можно выделить как минимум две наиболее фундаментальные характеристики догмата: познаваемость догмата и его развитие (или развиваемость). Позиция разума относительно «познаваемости догмата» будет определять приоритет и количество рациональной методологии в догматике (например, если догмат познаваем для разума, то в какой мере, и т. д.), отношение к проблеме «развиваемости догмата» будет открывать пространство для исторической методологии (к примеру, если догмат развивается, то необходимо более тщательное историческое исследование для постановки новых вопросов, или, допустим, исследователь приходит к тому, что новые догматы также вполне возможны, тогда необходимо более широкое освоение пространства Откровения с целью выявления лакун и т. п.). Таким образом, в данной статье нас интересуют темы познаваемости и развиваемости догмата как предпосылки догматической методологии.
Взятые нами в качестве примеров крайних подходов в богословии митр. Макарий (Булгаков) и Владимир Соловьев являются представителями довольно разных школ, разной интеллектуальной среды, однако при этом обе фигуры занимают ключевые места в русской дореволюционной религиозной мысли.
Митрополит Макарий (Булгаков). Митр. Макарий (1816–1882) — церковный иерарх, выдающийся богослов, историк и, кроме прочего, создатель крупнейшей догматической системы в русской церковной науке XIX в. Главными богословскими сочинениями митр. Макария, как правило, называют «Введение в православное богословие» (1847), «Православно-догматическое богословие» (1849–1835, в 5 томах) и «Руководство к изучению христианского, православно-догматического богословия» (1869) [Карпук, 2016, 499], сочинения, выдержавшие не одно издание и своим появлением создавшие «фактическую возможность для дальнейшего движения по новым путям» [Глубоковский, 2002, 7]. Речь идет о путях богословия именно в школе и для школы, т. е. научной работы с богословскими истинами [Помазанский, 1976, 185]. Поэтому специфика образовательная, а не «проблематизирующая» будет неизбежно отпечатываться на всей системе. Это надо учитывать при сопоставлении с сочинениями «русских свободных мыслителей» на богословские темы.
Прежде чем обратиться непосредственно к анализу понятия догмата у митр. Макария, необходимо установить корреляцию терминов «догмат» и «Откровение». Откровение, согласно митр. Макарию, есть «сверхъестественное сообщение Богом человеку каких-либо истин веры» (Макарий Булгаков, 2000, 45). Далее находим, что истины Откровения подразделяются им на два типа: «постижимые для человеческого ума и превышающие его разумение», или тайны (Макарий Булгаков, 2000, 48). Сама природа тайны как бы двояка: с одной стороны, внешне понятная мысль, принимаемая разумом «в ряд других его мыслей», а с другой, «внутренняя возможность» этой мысли, или суждения, «взаимное отношение между подлежащим и сказуемым» в ней остаются для ума непонятными. В другом сочинении митр. Макарий дает более разработанное понятие об Откровении. Истины, содержащиеся в нем, разделяются первоначально на истины веры и истины деятельности (т. е. учение, заповеди). Нас интересуют прежде всего первые. Здесь митр. Макарий делает еще одно дробление — на истины, относящиеся к существу христианства, т. е. собственно догматы, и истины, не относящиеся к существу веры (Макарий Булгаков, 1913, 4). Первые содержат в себе учение «о Боге и Его отношении к миру и человеку, необходимое для нашего спасения», потому они называются еще «непререкаемыми и неизменными правилами спасительной веры» (Макарий Булгаков, 1913, 4; Макарий Булгаков, 1883, 12). Таким образом, объем понятия Божественного Откровения, согласно митр. Макарию, гораздо шире понятия догмата, самим же догматом называется истина веры, необходимая для спасения человека. Власть «определять и изъяснять» догматы принадлежит исключительно полноте Церкви (Макарий Булгаков, 1913, 5). Вместе с тем для каждого отдельного человека не закрыта область догматического мнения в осмыслении Откровения, однако, ссылаясь на 1-е правило VI Вселенского Собора1, митр. Макарий добавляет необходимость неизменного хранения всей полноты церковных догматов.
На основании вышесказанного о тайне митр. Макарий выделяет догматы непостижимые для разума (pura — чистые), «каковы догматы о Пресвятой Троице, о воплощении Сына Божия, об искушении» (Макарий Булгаков, 1913, 7) и отчасти постижимые (mixta — смешанные) (например, догмат о Промысле), однако в целом логика его системы делает самое постижение «смешанных» догматов не столько даже необязательным, сколько нежелательным, ибо догматы предназначены именно для того, чтобы в них верить, чтобы хранить их вплоть до дословного повторения. Такой подход получил в церковной науке название «охранительный» [Булгаков С., 1997, 19; Михайлов, 2013, 12]. Функции разума здесь урезаны до «послушания вере», притом, как отмечает Н. Н. Глубоковский, не добровольного, а скорее насильственного [Глубоковский, 2002, 7]; в отношении к основным догматам (поскольку они таинственны) ему отказано во всякой попытке постижения и объяснения их (Макарий Булгаков, 1883, 33–34).
Вопрос о развитии догматов также решается митр. Макарием весьма просто. Количество догматов, содержащихся в Откровении, определено Богом изначально, впрочем, хотя и само Откровение состоит не только из Св. Писания, которое уже дано, но и из Предания, которое развивается, пока существует история Церкви, тем не менее догматы всецело «преподаны в Откровении» (Макарий Булгаков, 1883, 14), т. е., надо полагать, имеется в виду именно в Писании Ветхого Завета и проповеди Христа и апостолов (ставших Новым Заветом), поэтому увеличиваться или уменьшаться количество и содержание догматов не должно (Макарий Булгаков, 1883, 14). Однако митр. Макарий не отвергает раскрытия догматов, объясняя его мотивацию апологетической целью. «Это развитие есть собственно одно только точнейшее определение и объяснение одних и тех же неизменных в существе своем догматов, совершающееся постепенно в продолжение веков, по поводу разных заблуждений и ересей, возникавших и не престающих существовать в недрах христианства» (Макарий Булгаков, 1883, 19). Таким образом, отвергается появление новых догматов, исторический ход догматического формулирования трактуется с апологетической точки зрения, догматические споры — это не прояснение истины, а защита для всех всегда известной истины.
Для большей ясности не лишним будет применить терминологию, предложенную для анализа темы исторического развития догмата П. Б. Михайловым в статье «Проблема развития в богословии и догматике» (2013). Это термины «предел» и «граница» Откровения. В данном вопросе, как видно, митр. Макарий отождествляет границы учения, имевшие место в проповеди Спасителя и апостолов, с пределом Откро-вения2, т. е. далее границе расширяться некуда, далее только сохранение, разъяснение и защита. Такое отождествление границы и предела в вопросе вероучения, кроме подхода митр. Макария, может порождать и другой исход мысли. Имеется в виду «теория догматического3 развития» перешедшего в католичество англиканина Дж. Г. Ньюмена (1801–1890), впервые изложенная в его «Эссе о развитии христианского вероучения» (1845) [Михайлов, 2013, 10]. Здесь граница раннехристианского учения также отождествляется с пределом Откровения, однако делается другой вывод — поскольку история продолжается, то продолжается и Откровение, и возникновение новых догматов вполне закономерно [Михайлов, 2013, 10].
Итак, догматическими предпосылками митр. Макария (Булгакова), порождающими весь спектр его довольно разработанной методологии (Макарий Булгаков, 1883, 26–37), будут представления о непостижимости таинственного по содержанию догмата, который, по замечанию Н. Н. Глубоковского, в данной системе в сущности равняется своей формуле [Глубоковский, 2002, 7], и о желательной статичности догмата. Догмат — это истина веры, его должно без всякого рассмотрения принимать и охранять от искажений. Научность данного подхода ограничивается только строгостью и логичностью систематизации материала. К самому же материалу ни познающий разум, ни историческое вопрошание здесь не имеют какого-либо решающего доступа.
Данное понимание сущности догматической истины тем не менее получило твердое место и в последующей богословской мысли. Например, в первом томе «Православного догматического богословия» (в 4 томах) прот. Н. Малиновского (1861–1917), вышедшего в 1895 г., находим следующую мысль. «Так как догматы — это то же Откровение Божие, только переведенное на другой язык, то допускать возможность новых догматов, следовательно, значило бы то же, что допускать возможность количественного приращения самого Откровения и даже возвещения нового Откровения, высшего, чем Откровение Бога во Христе» [Малиновский, 1910, 46]. Таким образом, согласно данной позиции, количественное увеличение догматов в Церкви невозможно, поскольку догматы — это и есть Откровение.
Однако если вопрос о количественном постоянстве вероучения Церкви в русской богословской науке XIX в. решается, можно сказать, единогласно4, то вопрос о качественном развитии, или раскрытии, догматов имеет разные позиции. Охранительный подход, как было показано, понимает раскрытие догматической истины исключительно только как разъяснение тех или иных аспектов вероучения, подвергающихся неправильным, еретическим перетолкованиям.
Епископ Сильвестр (Малеванский) и историческое раскрытие догматов. Начиная с 60-х гг. XIX столетия, вместе с освоением научно-исторической методологии в самых разных областях церковной науки5, в том числе и в догматическом богословии [Лисовой, 2002, 20–21], формируется новый подход касательно вопроса о раскрытии догмата. В качестве главных представителей новой школы можно выделить отчасти архиеп. Филарета (Гумилевского), проф. А. Л. Катанского и еп. Сильвестра (Малеванского; 1828–1908). Фундаментальный пятитомный труд еп. Сильвестра «Опыт православного догматического богословия» (1878–1889) является, пожалуй, самым ярким примером трансформации и «взросления» догматического богословия после системы митр. Макария.
Здесь уже кроме принятия догмата на веру признается необходимым именно познание догмата каждым отдельным членом Церкви, поскольку догмат в этом процессе усвоения привносит в сознание верующего «новую истинную жизнь» (Сильвестр Малеванский, 2008, 37). Самим догматом может быть названа только та истина, которая была преподана Самим Христом и проповедана апостолами (Сильвестр Ма-леванский, 2008, 21). И таким образом, с первых времен христианство имеет всю полноту догматического учения. Однако вместе с тем существует и развитие догматов. «Догматы пред изучающим их разумом являются не в их чистом, первоначальном виде, в каком заключены они в Божественном Откровении, а в виде более или менее развитом и сформированном, как перешедшие уже через длинный и многосложный процесс сознания столько веков существовавшей Церкви… С этой стороны они представляют собой новый, еще более обильный и пригодный материал для научных работ богословствующей мысли», — пишет еп. Сильвестр (Сильвестр Малеванский, 2008, 46). Однако исторический процесс церковного сознания, преподанной Христовой истины, никак не вредит самой этой откровенной истине, не изменяет ее существа (Сильвестр Малеванский, 2008, 38). Здесь еп. Сильвестр пользуется парадигмой, активно разрабатываемой проф. А. Л. Катанским, согласно которой существует неизменный смысл догмата, его содержание и некая словесная оболочка, формула; соответственно, первое — неизменно, второе — может до определенного момента, пока не будет зафиксировано на Вселенском Соборе, развиваться (Катан-ский, 1871, 819). Хотя, как показывает история, некоторые стороны уже сформулированных догматов также продолжают развиваться и после Соборов (Катанский, 1871, 824). Однако неизменяемая сторона догмата, согласно еп. Сильвестру, парадоксально словно бы приспосабливается к степени развития человеческого сознания, в каждую историческую эпоху присутствует в соответствующих изменяемых формулах данного времени, при том без потери своей истинности. «Само Откровение, — пишет еп. Сильвестр, — сообщавшее людям Божественную истину, не принижало внутренних психических способов ее усвоения и тех условных и временных форм или образов представления, которые помогают сознанию, смотря по степени его развития, принимать и усвоять известные истины, но, напротив, приспособлялось к ним и пользовалось ими при передаче людям Божественной истины, конечно, без всякого ущерба ее существу» (Сильвестр Малеванский, 2008, 38). Таким образом, действительно, имеет место историческое все более полное осознание основных христианских истин, круг которых очерчен с самого зарождения Церкви, однако церковное сознание идет «вглубь», в бесконечность Богопознания, от чего истина нисколько не изменяется, ничего не теряет в своем существе.
Такой подход можно обозначить как «умеренный историзм» в вопросе о догматическом развитии. Здесь органично сочетаются апофатический способ познания, при помощи которого очерчивается круг недопустимых утверждений, и катафатиче-ский, посредством которого происходит углубление развивающегося субъективного (человеческого) сознания богочеловеческого организма Церкви.
Необходимо несколько отличить данный подход от католической теории «догматического развития» уже упомянутого нами кардинала Дж. Г. Ньюмена, который также опирается на историческое исследование догматической мысли. Для последнего все христианское учение представляется как некое единое и целостное Откровение, которое изначально преподано Христом в виде некоторого «залога веры» или «идеи», т. е. как бы не развившегося еще «семени». С одной стороны, это «семя» представляет собой всю полноту Откровения, с другой стороны, для коллективного сознания Церкви конкретной исторической эпохи эта полнота частично сокрыта (implicite), интуитивно неясно ощущаема [Малимонова, 2018, 38], следовательно, вся полнота в отдельный конкретный момент времени и вроде бы доступна в форме неких не вполне осознаваемых «зачатков», и в то же время недоступна в том виде, в котором христианская доктрина будет развита в будущих веках. Простой пример: обращаясь к теме единосущия Сына с Отцом, Ньюмен приходит к тому, что до арианских споров христиане «не вполне сознавали и не признавали публично» данную истину, хотя и имели ее в своем духовном опыте (Newman, 2011, 146). И в каждую эпоху некий спор или искажение активирует определенную богословскую рефлексию Церкви, которая проявляет (explicite), осознает и формулирует ту или иную истину
[Walgrave, 2002, 807]. Так постепенно появляются все основные догматы (при этом Ньюмен разбирает и развитие сакраментальной и других сторон церковной жизни) Католической Церкви, в том числе и новые мариологические догматы и догмат о папской непогрешимости (или безошибочности). Кардинал Ньюмен показывает, что все эти догматы — следствие естественного хода развития церковной доктрины и не отличают современного ему католика от христианина первых времен. Таким образом, надо сказать, что отличие «умеренного историзма» от теории «догматического развития» хотя и не лежат на поверхности, однако весьма существенно. Если для первого подхода характерна убежденность в достаточно отчетливом понимании всех основополагающих догматов для каждой эпохи христианства (пусть и с различной глубиной проработки), начиная с самой ранней, то для кардинала Ньюмена все догматы, определенные в последующие эпохи, в первоначальный период Церкви не осознаются верующими в той степени, чтобы о них открыто говорить, т. е. разница в первоначальном видении истины. Если для первого подхода очертания уже заданы с ранних времен христианства, то теория развития стоит на неких ощущениях духовного опыта, неуловимых до тех пор, пока не вспыхнет нечто откровенно противоречащее этому опыту. Впрочем, данная, весьма важная и отнюдь не простая, тема нуждается в более серьезном исследовании.
Здесь же можно сказать о характере доктринального развития у кардинала Дж. Г. Ньюмена. Развитие подобно росту живого организма. «Там, где совершается такое развитие, — и жизнь, полная духа и силы, а где оно остановилось, — там жизни нет, там застой, оцепенение», — пишет прот. Н. Малиновский [Малиновский, 1910, 45]. Само увеличение количества догматических истин происходит не столько логическим путем, хотя логическая связь между изначальной идеей и последующими ее выражениями должна быть — «тот, кто действительно знает одну часть, знает все», — пишет Ньюмен в одном из писем [Walgrave, 2002, 807], — сколько органическим, т. е. через некую соотнесенность, вписываемость в неясно, интуитивно ощущаемую полноту первоначальной идеи, состоящей из синтеза имплицитных и эксплицитных истин [Walgrave, 2002, 807]. Подтверждением этой мысли являются семь характеристических признаков, которые приводит Дж. Г. Ньюмен для отличия подлинного развития от искажения: «1) сохранение первоначальной модели, характеристических черт; 2) непрерывность основных принципов; 3) способность ассимилировать внешние темы первоначальной идеей; 4) логическая взаимосвязанность; 5) частичное предвосхищение в чем-либо на более ранних этапах развития; 6) консервативное отношение к прошлому, сохранение старой идеи в новой форме; 7) подтверждение временем, т. е. сохранение в актуальном состоянии достаточно долгое время» [Емельянов, 2007, 537; Newman, 2011, 169–203]. Как видно, логическое соотношение в предыдущем и последующем этапах догматического развития присутствует, хотя и не на первом месте.
Владимир Соловьев. Наконец, обратимся к творчеству Владимира Соловьева (1853–1900). Его деятельность не связана с академической богословской средой и традицией, и поэтому он более известен как философ и публицист, имевший, однако, глубокое влияние на всю последующую русскую гуманитарную мысль, не исключая и богословия (например, на свящ. П. Флоренского, прот. С. Булгакова и др.) [Помазан-ский, 1951, 152]. Начав свой путь философа с критики западных учений Нового вре-мени6, Вл. Соловьев в ряде сочинений7 касается и богословской проблематики, даже создает некую философско-богословскую систему.
Не обошел Вл. Соловьев и вопроса о «догматическом развитии», которому он посвящает такую важную статью из «Православного обозрения», как «Догматическое развитие Церкви в связи с вопросом о соединении Церквей» (1886). Здесь вопрос о развитии церковного вероучения вытекает из дискуссии о соединении Церквей, имевшей место на страницах харьковского журнала «Вера и разум» в 80-х гг. XIX столетия. Первым оппонентом Вл. Соловьева выступил под псевдонимом «Т. Стоянов» К. Е. Истомин с циклом статей под названием «Наши новые философы и богословы» (1885–1888), в 1886 г. также против идей Соловьева была опубликована статья доцента МДА А. П. Шостина (статьи надписаны инициалами «А. Ш.»), в 1887 г. в защиту Соловьева напечатал статью И. И. Кристи [Черняев, Бердникова, 2019]. Таким образом, проблема догматического развития и связанная с ней научно-историческая методология, способная выступать в качестве некоторого критерия истинности для богословского исследования, была серьезно заявлена в русской богословской науке именно Вл. Соловьевым.
В 1887 г. был опубликован первый и единственный том «Истории и будущности теократии», где, как пишет сам ее автор, были учтены возражения его оппонентов в вышеуказанной полемике (Соловьев, 1914, 250). Начинается данное сочинение следующими весьма показательными словами: «Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания; показать, как эта древняя вера, освобожденная от оков местного обособления и народного самолюбия, совпадает с вечною и вселенскою истиною — вот общая задача моего труда» (Соловьев, 1914, 250). Под древней верой, естественно, подразумевается христианство неразделенной Церкви, однако что имеется в виду под вечной и вселенской истиной? Если полагать само Откровение, то, получается, задача труда в том, чтобы доказать, что «отцы» не ошибались, интерпретируя Божественное Откровение, если же под вселенской истиной понимать нечто другое, некое философское учение, известное Вл. Соловьеву, то задача сочинения — сказать, что «отцы» знали то, что сейчас находится не в полной отчетливости.
Дело в том, что Вл. Соловьев в христианском учении как бы разделяет некое «вечное содержание христианства» и его историческую форму (язык, категории и прочее) — напоминает различение содержания и формулы догмата, — притом один из важнейших мотивов его творчества, прослеживающийся и в вышеприведенных строках, заключается в том, чтобы найти более подходящую форму, или язык, вселенской христианской истине, чем те, в которых христианство запечатлелось в Византийскую эпоху. На роль такой более подходящей формы как нельзя лучше подходит «современное знание и философия» [Зеньковский, 2001, 460]. А собственно бытие Западной Церкви осмысляется Соловьевым как почва, вырастившая эту новую, более совершенную рациональность [Зеньковский, 2001, 460], взяв которую, можно совершить синтез христианского Откровения и современной мысли.
Вообще, тема синтеза проходит сквозь всю философию Вл. Соловьева. Это в первую очередь поиск ««всеединства», синтеза религии, философии и науки, — веры, мысли и опыта», синтетически мыслится и концепт «человечества» как некое единое целое [Зеньковский, 2001, 461], также синтетическим пафосом овеяна и идея Богочеловече-ства. Сюда же относится идея цельного знания, в котором неразрывно слиты мистика, теория и практика, и онтологический статус которого — «сущее всеединое» (Соловьев, 1878–1880, V), или «цельная жизнь». По словам проф. прот. В. Зеньковского, «понятие «цельной жизни» есть, конечно, своеобразная транскрипция идеи «Царства Божия», но с тем существенным отличием, что «цельная жизнь» мыслится Соловьеву не как благодатное (т. е. свыше) преображение жизни, а как «окончательный фазис исторического развития»» [Зеньковский, 2001, 466].
В «Истории и будущности теократии» Вл. Соловьев, основываясь на разработанном А. С. Хомяковым учении о Церкви как «живом организме, организме истины и любви», или «истине и любови, как организме» (Соловьев, 1914, 252), отмечает, что Церковь имеет некую среднюю жизнь «между Божьей и природной» (Соловьев, 1914, 260), и называет ее «духовным человечеством» (Соловьев, 1914, 260) или Софией, Премудростью Божией (Соловьев, 1914, 261). Церковь являет собой истинную жизнь, в которой прошлое, настоящее и будущее не сменяют друг друга, обращаясь в дурную бесконечность, но взаимно содержатся друг в друге (Соловьев, 1914, 258). Реальная историческая дорога Церкви делится Вл. Соловьевым на три этапа: священство, или отечество, — прошлое; царство, или сыновство, — настоящее; всемирное братство народов — будущее. Чтобы достичь состояния братства, состояния «живущего любовью и свободным единомыслием», нынешнее христианство должно восстановить «свою духовную связь с прошлым вселенской Церкви», т. е. сыновне принять веру отцов (Соловьев, 1914, 260).
Прежде чем обратиться к анализу церковного и догматического развития, необходимо выяснить понимание Вл. Соловьевым природы догматической истины по отношению к познающему сознанию. Обратимся к более раннему сочинению — «Критике отвлеченных начал». Как было сказано, в основе системы Соловьева лежит философское учение о цельном знании, или всеедином сущем. Познается всеединое содержание истины прежде всего мистическим путем, далее полученный «духовный» опыт «вводится в формы логического мышления и реализуется в данных опыта» (Соловьев, 1878–1880, V). Так выстраивается система цельного знания или свободной теософии8, которая представляет собой «всесторонний синтез теологии, рациональной философии и положительной науки» (Соловьев, 1878–1880, V).
Все умозрительные понятия делятся Вл. Соловьевым на две группы: положительные идеи, коренящиеся в самом бытии и не могущие быть выведенными посредством разума, но принимаемые исключительно на веру, и отвлеченные идеи, дискурсивно выводимые (Соловьев, 1878–1880, 12–13). Однако данные типы начал неотделимы друг от друга. Даже в области теологии, согласно Вл. Соловьеву, на догматах, или положительных началах, религиозной веры вырастают системы, наполненные отвлеченными началами (Соловьев, 1878–1880, 14). В силу этого положения мыслитель проводит методологическое соответствие между богословием и остальными науками, поскольку везде есть опора на веру, на беспредпосылочные начала (Соловьев, 1878–1880, 15), заключая тем, что положить строгую границу между верой и разумом невозможно.
Опираясь на утверждение о том, что «одно и то же содержание может быть в одно и то же время, но с различных сторон как предметом религиозной веры и мистического созерцания, так равно и предметом философского мышления и научного исследования» (Соловьев, 1878–1880, 16), Вл. Соловьев пишет: «мы различаем всякий предмет как сущий, как мыслимый и как действующий» (Соловьев, 1878–1880, 16). Первое состояние, т. е. бытие предмета как он есть сам в себе, есть принадлежность религиозного восприятия только верой, второе — философского умозрения, и третье — опытной науки (Соловьев, 1878–1880, 16). Когда могут быть осуществлены все три фазы анализа того или иного предмета, тогда данная истина действительно характеризуется как цельное, а значит, истинное знание.
Касательно догмата Вл. Соловьев различает два способа восприятия: личное мистическое созерцание Божественных вещей или — посредством «исторического предания, веры в авторитет» (Соловьев, 1878–1880, 17). Первое называется мистическим, второе — традиционным. Причем второй способ удостоверения в истинности предмета мыслитель объявляет временным. «Я хочу сказать, — пишет философ, — что по существу дела ничто не препятствует представить такое состояние общечеловеческого сознания, в котором традиционное основание религии будет совершенно поглощено мистическим, т. е. религия для всех будет основана на непосредственном восприятии Божественных вещей, а историческое предание останется только в сознании как идея пережитого прошлого» (Соловьев, 1878–1880, 17). Таким образом, исходя из вышесказанного, система Вл. Соловьева ставит равенство в онтологическом отношении между Божественной истиной, или догматом, и всяким другим человеческим знанием. Хотя при этом весь спектр человеческого знания (имеются в виду начала или общие идеи) теперь получает более высокое значение, оно укоренено в высшей реальности, однако при этом догмат несколько понижается в своем статусе. Поскольку под догматом принято понимать в первую очередь истину о вещах Божественных [Давыденков, 2017, 22], то учение о Боге, о Его реальности теперь может быть поставлено в один ряд с любой другой формой знания, поскольку истина есть некое целое, всееди-ное. И «если истина веры не может стать истиною разума, не может быть истиною и для него, не имеет, следовательно, над ним силы, то разум тем самым имеет основание отрицать эту истину» (Соловьев, 1878–1880, 332).
Из этого мы заключаем об имманентности, постижимости догмата для человеческого мышления, пусть и в высшей его части — некоей мистической интуиции. Такое знание обладает способностью быть формализовано в категории мысли и может быть обнаружено опытно; соответственно, это уже не достояние веры. Теология, которая объявляет некоторую истину догматом веры, называется Вл. Соловьевым «отвлеченным догматизмом». Таким образом, концепция цельного знания обосновывает познаваемость догмата по своей природе.
Вопрос об исторической развиваемости догмата, как уже было сказано, поднимается кроме статей также в «Истории и будущности теократии» и решается как частный случай в теме соединения Церквей, поскольку одним из оппонентов Вл. Соловьева было выставлено учение Римско-Католической Церкви о возможности догматического развития как препятствие к объединению с последней (Соловьев, 1914, 283).
Обращаясь к данному вопросу, Вл. Соловьев отмечает: «Восточная и Западная Церкви совершенно согласны между собою в общем взгляде на значение догматической истины» (Соловьев, 1914, 283). В качестве этого общего понимания приводится католическое учение о «залоге веры (depositum ^dei)», который Церковь обязана хранить как «Божественный залог и назидаться им» (Соловьев, 1914, 283). С течением истории происходит некое развитие и укрепление тех сторон веры, которые затрагиваются еретическими лжеучениями (Соловьев, 1914, 284). Так возникают новые догматические определения, которые «не суть новые откровения, а лишь новые обнаружения одной и той же неизменной истины с тех ее сторон, которые не представлялись вполне ясно и определенно церковному сознанию» (Соловьев, 1914, 284). Нетрудно увидеть здесь большое сходство с католическим учением об имплицитных и эксплицитных аспектах христианской идеи. Более того, Вл. Соловьев прямо допускает данную терминологию для объяснения собственного воззрения (Соловьев, 1914, 287).
Приведем еще одну характерную цитату: «Истины веры… несомненно переходили в церковном сознании от меньшей ясности и определенности к большей, выступали так сказать наружу, проявлялись подобно тому, как различные части и органы единого и нераздельного существа лишь постепенно обозначаются и обособляются при развитии этого существа из первоначального, едва заметного, но все-таки совершенно реального, внутренне-определенного и полного жизни зародыша» (Соловьев, 1914, 287–288).
Далее Вл. Соловьев разбирает вопрос о самой возможности развития в богословии, отмечая, что со стороны Божества никакое развитие, т. е. изменение, недопустимо, «все изменяющееся и совершенствующееся в истории Откровения принадлежит к человеческой стороне». При этом «Божественное начало постепенно открывается сознанию человеческому, и мы должны говорить о развитии религиозного опыта и религиозного мышления» (Соловьев, 1914, 285). Казалось бы, здесь Вл. Соловьев близок к «умеренному историзму» еп. Сильвестра (Малеванского); Божественное Откровение как бы приспосабливается к возможностям сознания на каждом историческом этапе, однако есть отличие, позволяющее классифицировать точку зрения Вл. Соловьева как некий «прогрессизм» в богословии. У еп. Сильвестра нет учения о первоначальном минимуме Откровения, для него все Откровение изначально, полноценно, неисчерпаемо, оно-то, собственно, в его целокупности, объективности и выступает предметом постепенного познания с субъективной стороны Церкви, т. е. человечества, при этом не может быть и речи, чтобы круг тем (количество догматов) Откровения было каким-либо естественным способом мышления увеличено.
Для Вл. Соловьева, Откровение, напротив, дается всего только в одной теме — в «истине Богочеловека» (Соловьев, 1885, 752), которая потенциально заключает в себе великое множество возможностей раскрытия. «Единый основоположный догмат Божественного Откровения… есть догмат Христа во плоти пришедшего, умершего и воскресшего» (Соловьев, 1885, 759). Из этого догмата в ходе исторического развития выводятся все остальные истины. Догмат о Богочеловеке каким-то неизъяснимым образом содержит и учение о грехопадении, и догмат о Троице, и прочие христианские истины. Объяснить это можно единственно только неким мистическим восприятием данной идеи, о приоритетности которого для Вл. Соловьева уже было сказано. Сам же автор разъясняет способ развития данной истины в ходе неких разногласий только «чрез показание внутренней логической связи оспариваемых истин с единым бесспорным и для всех несомненным догматом христианской веры» (Соловьев, 1914, 293).
С одной стороны, это сужает даже мысль кардинала Дж. Г. Ньюмена, считавшего логическое выявление новых аспектов первоначальной идеи не единственным путем развития. С другой же — данный тезис слаб уже тем, что, к примеру, троичный догмат из него не выводится каким-либо логическим путем. Как сам Вл. Соловьев неожиданно для себя показывает — первая проповедь ап. Петра и прочие его слова уже содержат кроме истины о Богочеловеке истину о Св. Троице (Соловьев, 1914, 288–289). «Сего Иисуса воскреси Бог, ему же вси мы есмы свидетели. Десницею убо Божиею вознесеся и обетование Святого Духа прием от Отца, излия сие, еже вы ныне видите и слышите»9 (Деян 2:32–33). Поэтому в качестве «залога веры» мало говорить только об истине Богочеловека. Основополагающие христианские истины о Христе Богочеловеке и Св. Троице уже содержатся в евангельском тексте без всякого выведения друг из друга, как, впрочем, совершенно самостоятельно содержатся и другие истины, поскольку текст Священного Писания не построен в форме философского трактата.
В качестве финального штриха к теории Вл. Соловьева отметим, что само развитие, осознание, прояснение новых аспектов в догмате о Богочеловеке, достигая состояния ясности, формулируется Вселенским Собором, после чего догмат получает объективность и общеобязательность для всех членов Церкви (Соловьев, 1914, 299). До этого момента ни Арий, ни Несторий, ни кто-либо другой, согласно такой позиции, не может быть назван еретиком и, от себя добавим, хотя бы он проповедовал откровенное богохульство. К такому выводу приводит логика «теории развития» Вл. Соловьева.
Вывод. Итак, суммируем сказанное. Относительно вопроса о познаваемости догмата в богословской науке XIX в. формируется два понимания. Для первого характерно представление о догмате как реальности таинственной и потому непостижимой, второе воззрение опирается на рационалистический оптимизм относительно познаваемости Божественной реальности. К первому взгляду принадлежат системы митр. Макария (Булгакова) и еп. Сильвестра (Малеванского). Однако в рамках «охранительного» подхода реализуется методология ограждения от самих попыток познания догмата, тогда как для исторического подхода в догматике такое познавание желательно и необходимо с целью оздоровления, одухотворения ума. Ко второй позиции принадлежит точка зрения Вл. Соловьева, для которого догмат хотя и таинствен, однако, вероятнее всего, когда-нибудь церковь-всечеловечество придет к такому, даже земному, состоянию, когда мистическое восприятие будет открывать непосредственно Божественную реальность для каждого члена. В целом, два первых подхода более всего согласны с духом святоотеческого учения. Ибо, как пишет свт. Григорий Богослов, «для человека невместимо Божие даже явление, не только естество» (Григорий Богослов, 2007, 342). Однако для развития богословия в форме науки более перспективна точка зрения еп. Сильвестра (Малеванского), которая, собственно, и получила дальнейшее развитие. Например, «Догматика» (1-й том опубл. в 1932)
прп. Иустина (Поповича) также держится данного подхода. Догматы, с одной стороны, непостижимы, с другой же, «ум христиан в Богочеловеческом Теле Христовом — Церкви — каким-то неизреченным, таинственным образом по действию благодати сочетается с умом Христовым и благодаря этому делается способным познавать Божественные Христовы истины» [Иустин Попович, 2006, 35], при этом такое познание является необходимым, включенным в общий ход духовной жизни человека.
Относительно вопроса о развитии догмата можно выделить три направления. Согласно первому, догматы — это собственно догматические формулы. Их развитие есть не что иное, как только защита от ересей, что является мерой вынужденной, но как таковое, развитие не является чем-то желательным. Догматы необходимо хранить в том виде, в котором их получили от предшествующих поколений. Поэтому как такового развития здесь, собственно, и нет.
Другая позиция представляет развитие как естественное и необходимое действие, сопутствующее историческому развитию человечества. Здесь выделяется неизменяемая часть догмата — его сущность, смысл и изменяемая — формулировка, которая хотя и закрепляется на Соборах как обязательная, однако может развиваться и далее. Сам круг догматических тем очерчен уже в ранней Церкви. И догмат, таким образом, развивается как бы «вглубь», без количественного увеличения. И вновь именно данный подход получает более широкое распространение в дальнейшем, вплоть до сегодняшних дней. К примеру, спустя несколько десятилетий после выхода системы еп. Сильвестра, где получает развитие и обоснование данный принцип, на Религиозно-философских собраниях в Петербурге (1901–1903) большинство представителей духовно-академического крыла держатся как раз такого подхода (прот. проф. С. Соллертинский, еп. Сергий (Страгородский), проф. А. И. Бриллиантов и др.) [Записки, 2005, 363–378]. Такой же позиции придерживается и современный учебник — «Догматическое богословие» прот. О. Давыденкова [Давыденков, 2017, 44].
Наконец, точка зрения Вл. Соловьева допускает количественное увеличение догматических истин через обнаружение логической связи с первоначально данным, единственным догматом о Богочеловеке. Наиболее слабое место такой теории, как было показано, заключается в том, что до соборного провозглашения догмата некое даже явно еретическое учение не может быть названо ересью, поскольку еще как будто бы нет и самого догмата. Такое учение лишает Церковь ряда присущих ей по природе полномочий и обедняет понятие кафоличности, коль скоро Церковь не может определить и отвергнуть как ересь то или иное учение, будучи зависима от такого исторически обусловленного события, как созыв Вселенского Собора.
Список литературы Предпосылки догматической методологии: от митр. Макария (Булгакова) к Вл. Соловьеву
- Апостол. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2001. 528 с.
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Российское Библейское общество, 2013.
- Григорий Богослов (2007) - Григорий Богослов, свт. Творения. М., 2007. Т. 1.
- Катанский (1871) - Катанский А. Л. Об историческом изложении догматов // Христианское чтение. СПб., 1871. № 5. С. 791-843.
- Макарий Булгаков (1883) - Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие: в 2 т. СПб., 1883. Т. 1.
- Макарий Булгаков (1913) - Макарий (Булгаков), митр. Руководство к изучению христианского, православно-догматического богословия. М., 1913.
- Макарий Булгаков (2000) - Макарий (Булгаков), митр. Введение в православное богословие. Минск. М., 2000. 607 с.
- Сильвестр Малеванский (2008) - Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт православного догматического богословия: в 5 т. СПб., 2008. Т. 1.
- Правила (2001) - Правила православной церкви с толкованиями Никодима еп. Далматинско-Истрийского. М., 2001. Т. 1.
- Соловьев (1878-1880) - Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева: в 10 т. СПб., 1878-1880. Т. 2. С. 1-374.
- Соловьев (1885) - Соловьев В. Догматическое развитие церкви // Православное обозрение. М., 1885. Т. III. С. 727-798.
- Соловьев (1914) - Соловьев В. С. История и будущность теократии // Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева: в 10 т. СПб., 1914. Т. 4. С. 250-633.
- Newman (2001) - Newman J. H. An Essay on the Development of Christian Doctrine. 6th ed. University of Notre Dame press, 2011.
- Булгаков С. (1997) - Булгаков С., прот. Догмат и догматика // Живое предание. Православие в современности. М., 1997. С. 8-25.
- Глубоковский (2002) - Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. М., 2002. С. 7.
- Давыденков (2017) - Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М., 2017. 624 с.
- Емельянов (2007) - Емельянов Н., свящ. Догматического развития теория // Православная энциклопедия. М., 2007. Т. 15. С. 534-542.
- Записки (2005) - Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901-1903 гг.). М.: Республика, 2005.
- Зеньковский (2001) - Зеньковский В., прот. История русской философии. М., 2001. 880 с.
- Иустин Попович (2006) - Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви // Собрание творений преподобного Иустина (Поповича). М.: Паломник, 2006. Т. 2.
- Карпук (2016) - Карпук Д. А. Макарий (Булгаков), митр. // Православная энциклопедия. М., 2016. Т. 42. С. 487-500.
- Малимонова (2018) - Малимонова С. А. Теория развития христианского вероучения // Христианское чтение. 2018. № 6. С. 32-41.
- Малиновский (1910) - Малиновский Н., прот. Православное догматическое богословие. Сергиев Посад, 1910. Т. 1.
- Михайлов (2013) - Михайлов П. Б. Проблема развития в богословии и догматике // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. 2013. Вып. 6 (50). С. 9-23.
- Помазанский (1951) - Помазанский М., прот. Догмат Халкидонского Собора и его истолкование в религиозной философии Вл. С. Соловьева и его школы // Православный путь. Джорданвилль, 1951. С. 140-158.
- Помазанский (1976) - Помазанский М., прот. Православное Догматическое Богословие в изложении Макария, Митрополита Московского. Догмат искупления // О жизни, о вере, о Церкви. Сборник статей (1946-1976). Вып. 1. 1976. С. 182-197.
- Сухова (2013) - Сухова Н. Ю. "Историко-богословская революция" в высшей духовной школе России // Филаретовский альманах. 2013. Вып. 9. С. 135-169.
- Лисовой (2002) - Лисовой Н. Н. Обзор основных направлений русской богословской академической науки в XIX - начале ХХ столетия // Богословские труды. Сб. 37. М., 2002. С. 6-127.
- Черняев, Бердникова (2019) - Черняев А. В. Бердникова А. Ю. Путь В. С. Соловьева к "Истории и будущности теократии": полемика о догматическом развитии церкви на страницах журнала "Вера и разум" (1884-1891) // Вестник РУДН. Серия: Философия. 2019. Т. 23. № 2. С. 118-132.
- Walgrave (2002) - Walgrave J. H. Development of doctrine // New Catholic Encyclopedia. Vol. 4. 2nd. ed. Washington. 2002. P. 803-809.