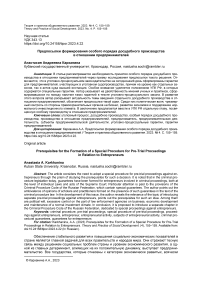Предпосылки формирования особого порядка досудебного производства в отношении предпринимателей
Автор: Карханина Анастасия Андреевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается необходимость принятия особого порядка досудебного производства в отношении предпринимателей через призму исследования предпосылок такого решения. Отмечается, что в уголовно-процессуальном законодательстве на сегодняшний день сформированы гарантии для предпринимателей, участвующих в уголовном судопроизводстве, причем на уровне как отдельных законов, так и актов суда высшей инстанции. Особое внимание уделяется положениям УПК РФ, в которых содержатся специальные гарантии. Автор указывает на двойственность мнений ученых и практиков, сформировавшихся по поводу наличия таких гарантий в тексте уголовно-процессуального закона. В развитие этого вопроса автор раскрывает актуальность темы введения отдельного досудебного производства в отношении предпринимателей, обозначает предпосылки такой идеи. Среди них политическая воля, чрезмерный контроль со стороны правоохранительных органов на бизнес, развитие экономики и поддержание нормального инвестиционного климата. В заключение предлагается ввести в УПК РФ отдельную главу, посвященную особому производству в отношении предпринимателей.
Уголовный процесс, досудебное производство, особый порядок досудебного производства, производство в отношении предпринимателей, предприниматель, предпринимательская деятельность, субъекты предпринимательской деятельности, уголовно-процессуальные гарантии, гарантии предпринимателей
Короткий адрес: https://sciup.org/149142594
IDR: 149142594 | УДК: 343.13 | DOI: 10.24158/tipor.2023.4.22
Текст научной статьи Предпосылки формирования особого порядка досудебного производства в отношении предпринимателей
поддерживают и стимулируют малое и среднее предпринимательство, что способствует увеличению конкурентоспособности производимой продукции, повышению качества оказания услуг, а также уровня жизни населения.
За последнее время значимость предпринимательства в государственном строительстве резко возросла: функционирование в условиях международных санкций, движение к импортоза-мещению изменили традиционные подходы в праве, выступающем важнейшим регулятором ведения бизнесов. Оно создает правила, определяет корреспондирующие права и обязанности предпринимателя и государства, устанавливает ответственность.
В связи с этим особое значение придается уголовно-процессуальному законодательству, обладающему действующим механизмом влияния на субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, посредством привлечения к ответственности или иному участию в данной сфере. Как верно отмечает О.В. Гладышева (2022), уголовная юстиция, имея мощный правоограничительный ресурс, может стать, во-первых, эффективным средством принуждения предпринимателей к должному выполнению своей экономической и социальной функции (миссии), а во-вторых, серьезной угрозой для их работы в случае злоупотребления со стороны органов правоохранительной направленности. Наличие проблемы защиты прав и законных интересов предпринимателей порождает необходимость ее решения, причем на всех уровнях государственной власти (Гладышева, 2022: 53). Большую важность в данном контексте имеет сфера правового регулирования, которая определяет особые правила, распространяющие свое действие на предпринимателей (Сопнева, Анопко, 2021). Так, например, статья 7 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ предоставляет уполномоченным по защите прав предпринимателей при Президенте РФ и в субъектах РФ специальное право доступа в следственные изоляторы, изоляторы временного содержания1. В ст. 21 этого же документа сформулированы отдельные правила по работе с предложениями, жалобами, заявлениями, адресованными уполномоченным по защите прав предпринимателей при Президенте РФ и в субъектах РФ. Уполномоченный по защите прав предпринимателей, согласно ч. 1 п. 3 ст. 5 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ, вправе (в процессе рассмотрения жалобы) без специального разрешения посещать места содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых субъектов предпринимательской деятельности и учреждения, исполняющие определенные наказания2.
Кроме того, отдельные особые правила разъясняются на уровне актов суда высшей инстанции. Например, в п. 6 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 в развитие положений ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ говорится о запрете применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого субъекта предпринимательской деятельности3.
В ключе рассматриваемой проблематики определенная специфика заложена и в нормах уголовно-процессуального закона. Это особый порядок возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 20 УПК РФ), рассмотрения сообщения о преступлении (ч. 7, 8 ст. 144), прекращения уголовного преследования (ст. 28.1), избрания и применения мер пресечения (ч. 3.1 ст. 46, ч. 9.1 ст. 47, ч. 13 ст. 107, ч. 1.1 ст. 108), производства следственных действий (ч. 4.1 ст. 164), подследственности (ст. 151), допуска к вещественным доказательствам (ст. 81.1 УПК РФ).
Как можно увидеть, УПК РФ содержит множество специальных гарантий для предпринимателей, участвующих в уголовном процессе. Данный факт отрицать бессмысленно, другое дело – как к нему относиться. Так, в обществе на сегодняшний день сформирован водораздел между сторонниками такого законодательного подхода и его противниками. По мнению первых, повышение уровня правовой защиты предпринимателя актуально потому, что предпринимательская деятельность реализует общественно-полезные функции: уплата налогов, удовлетворение потребностей в товарах, услугах, работах, создание новых рабочих мест и др. (Гаврилин, 2013). Исходя из этого, можно согласиться с мнением М.Б. Костровой, согласно которому в России интенсивно развивается экономико-ориентированное уголовно-процессуальное право (2016: 44). С точки зрения О.В. Гладышевой, в уголовном судопроизводстве недопустимо создавать для предпринимателей дополнительные преимущества, поскольку подобное положение дел приводит к нарушению принципа равенства, провозглашенного Конституцией РФ, и формирует основу для социального дисбаланса (2018: 105).
Двойственность мнений, сформировавшаяся в науке и практике по вопросу выделения дополнительных гарантий предпринимателям, зародила идею о выделении так называемого особого порядка досудебного производства в отношении предпринимателей. Еще в 2016 г. председатель Партии роста бизнес-омбудсмен выступал с предложением ввести в УПК РФ главу, которая бы содержала особенности производства по уголовным делам по экономическим преступле-ниям1, однако в дальнейшем данная идея так и не была реализована.
По мнению Н.С. Мановой, если процессуальной деятельности по ряду категорий дел присущи «разовые» особенности, то это вовсе не значит, что необходимо дифференцировать форму производства. Об этом можно говорить лишь в том случае, если имеются различия существенного характера в уголовно-процессуальной процедуре, которые качественно отличают данную форму производства от иных его же процессуальных форм и в конечном результате приводят к формированию автономной процессуальной процедуры2. Таким образом, автор имеет в виду, что в выделении особого производства в отношении предпринимателей нет необходимости, поскольку соответствующие нормы носят единичный, а не массовый и систематизированный характер. С этим справедливо не согласна Л.В. Попова, которая определяет внесенные «предпринимательские» новеллы в УПК РФ как многочисленные точечные положения, встраиваемые в ординарный, общий процессуальный порядок. Как полагает ученый, трудно отрицать, что все случившиеся изменения (в уголовно-процессуальном законе) качественно отличают процессуальную форму досудебного производства по делам об экономических преступлениях, которые совершены в области предпринимательской деятельности3.
Сторонники формирования отдельного досудебного производства для рассматриваемой категории дел небеспричинно делают новаторские предложения. В основе их полагания лежат определенные предпосылки. В связи с этим возникает резонный вопрос: что к ним можно отнести? В первую очередь следует отметить политическую волю. Так, еще более 10 лет назад по поручению Президента РФ отечественными учеными была разработана Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере (далее – Концепция). В ней особо отмечалось, что в государстве сложился не формально закрепленный, но существующий в действительности правопорядок, который опасен для права собственности и законных интересов предпринимателей. В условиях такого правопорядка осуществление предпринимательства с неизбежностью порождает попадание в группу риска и опасность быть привлеченным к уголовной ответственности безосновательно с возможностью утраты личной свободы и собственности. Также в Концепции указывалось на значительный разрыв между осужденными и количеством возбужденных дел в отношении предпринимателей за экономические преступления. Это говорит о том, что зачастую против субъектов предпринимательства возбуждаются дела без дальнейшей судебной перспективы. Такое положение с очевидностью ограничивает право, данное Конституцией РФ, – свободное осуществление экономической деятельности. Подобная ситуация создает высокие риски коррупции, порождает возможности для использования уголовно-процессуальных процедур в неправовых целях4.
Обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ в 2015 г., В.В. Путин отмечал, что следствием за предыдущий год было возбуждено 200 тысяч уголовных дел по составам экономической направленности, из которых только 15 % закончились реальным приговором. При этом более чем 80 % предпринимателей, в отношении которых велось уголовное преследование, потеряли бизнес полностью или в какой-то части, а это «прямое разрушение делового кли-мата»5. Неоднократно глава государства отмечал и высокое давление на предпринимателей со стороны правоохранительных органов в целях передела собственности. Для исключения данного явления он предлагал совершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности правоохранителей для повышения доверия к их работе и улучшения инвестиционного, делового климата6.
О том, что бизнес не вышел из-под давления правоохранительных органов в 2019 г. говорил и Генеральный прокурор РФ: он заявлял, что за год прокурорами было отменено почти 200
незаконно сформированных постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении предпри-нимателей1. В результате противозаконного преследования, как правильно отмечает Л.В. Попова, по причине рейдерства, коррупционным мотивам ущерб наносится не только интересам самого предпринимателя, возникает угроза нормального развития и функционирования бизнес-сферы, свободы предпринимательской деятельности, что тормозит развитие экономики государства и не лучшим образом влияет на собираемые налоги и занятость населения2.
В соответствии с поручением Президента РФ от 14 июля 2016 г. № Пр-1347, бизнес-сообщество России разработало среднесрочную программу социально-экономического развития страны до 2025 г. «Стратегия роста»3. В данном документе в контексте чрезмерного контроля бизнеса со стороны должностных лиц правоохранительных органов отмечается необходимость в установлении уголовной ответственности за заведомо незаконное уголовное преследование, в том числе возбуждение уголовных дел по статьям экономической направленности.
Данная инициатива была поддержана руководством страны. Так, В.В. Путин в одном из выступлений в 2016 г. высказался о том, что масштабы незаконного уголовного преследования нужно кардинальным образом снизить, кроме того, представители силовых ведомств должны нести персональную ответственность за действия, которые имели неоправданный характер и привели к краху бизнеса, – за его разрушение может быть и уголовная ответственность4. Действительно, в 2016 г. в ст. 299 УК РФ была введена новая часть 3, которая предусмотрела ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела: 1) в целях воспрепятствования предпринимательству; 2) из корыстной или иной личной заинтересованности; повлекшее: 1) прекращение предпринимательской деятельности; 2) причинение крупного ущерба5.
Однако сложившийся для предпринимателей порядок досудебного производства не является страховкой от их незаконного уголовного преследования. Он не исключает возможности полной или частичной утраты бизнеса. Учитывая то, что отечественный законодатель идет по пути активного внедрения в уголовно-процессуальный закон особых гарантий для предпринимателей, что является следствием политики государства, направленной на оптимизацию и совершенствование конструкций взаимоотношения личности и государства, поиска новых способов повышения эффективности защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса, представляется целесообразным сформулировать в отдельной главе УПК РФ правила особого производства в отношении предпринимателей. Такое решение позволит исключить чрезмерный контроль со стороны правоохранительных органов и, как следствие, нормализует хозяйственноэкономическую деятельность, наладит инвестиционный климат.
Список литературы Предпосылки формирования особого порядка досудебного производства в отношении предпринимателей
- Гаврилин Ю.В. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности от незаконного и необоснованного уголовного преследования // Адвокатская практика. 2013. № 6. С. 25-28.
- Гладышева О.В. Изъятие предметов, документов в уголовном судопроизводстве и защита прав предпринимателей // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2022. № 4 (14). С. 52-62.
- Гладышева О.В. Правила уголовного судопроизводства в отношении предпринимателей: проблемы и пути их решения // Вестник Удмуртского университета. Сер.: Экономика и право. 2018. Т. 28, № 1. С. 101-105.
- Кострова М.Б. Возможности уголовного и уголовно-процессуального права в преодолении экономического кризиса и некоторые проблемы "экономико-ориентированной" уголовной политики России // Актуальные проблемы взаимосвязи уголовного права и процесса: сб. материалов всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / отв. ред. А.А. Тарасов. Уфа, 2016. С. 42-55.
- Сопнева Е.В., Анопко О.А. Предприниматели и уголовный процесс: обзор проблем и решений // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 1 (96). С. 115-120.