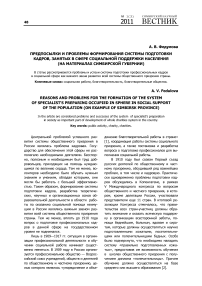Предпосылки и проблемы формирования системы подготовки кадров, занятых в сфере социальной поддержки населения (на материалах Симбирской губернии)
Автор: Федулова Анна Владимировна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (3), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы и успехи системы подготовки профессиональных кадров в социальной сфере как важного звена развития всей системы общественного призрения страны.
Социальная работа, благотворительность, благотворительные общества
Короткий адрес: https://sciup.org/14113584
IDR: 14113584
Текст научной статьи Предпосылки и проблемы формирования системы подготовки кадров, занятых в сфере социальной поддержки населения (на материалах Симбирской губернии)
Центральной проблемой успешного развития системы общественного призрения в России являлась проблема кадровая. Государство для обеспечения этой сферы не располагало необходимыми деятелями. Бесспорно, полезным и необходимым был труд добровольцев, приходящих на помощь нуждающимся по велению сердца. Тем не менее, волонтеров необходимо было обучать нужным знаниям и умениям, обладая которыми, они могли бы работать с большей эффективностью. Таким образом, формирование системы подготовки кадров, разработка теоретических, научных и организационных основ образовательной деятельности в области работы по оказанию социальной помощи неимущим в России являлись важным звеном развития всей системы общественного призрения страны. Тем не менее, вплоть до 1910 года вопрос о подготовке профессиональных кадров в данной сфере на государственном уровне не поднимался.
Лишь в 1909—1917 гг. ситуация в организации профессиональной деятельности и обучении социальной работе начинает существенно меняться. В 1909 году в России организуется профессиональное общество — Всероссийский союз учреждений, обществ и деятелей по общественному и частному призрению, целью которого являлось «упорядочение и объе- динение благотворительной работы в стране» [1], координация работы системы социального призрения, а также постановка и разработка вопроса о подготовке профессионалов для выполнения социальной работы.
В 1910 году был созван Первый съезд русских деятелей по общественному и частному призрению, обсудивший ряд важнейших проблем, в том числе и кадровую. Практически одновременно проблемы подготовки кадров обсуждались в Копенгагене, в рамках V Международного конгресса по вопросам общественного и частного призрения, в котором, кроме делегации России, участвовали представители еще 11 стран. В итоговой резолюции Конгресса отмечалось, что правительства всех стран-участниц должны обратить внимание и оказать всяческую поддержку в организации всесторонней заботы, помощи беднейшим, больным, вдовам и сиротам, которые должны осуществляться научно подготовленными хожатыми, посетительницами или попечительницами бедных. Особо было подчеркнуто, что необходимо наладить систему «правильно подготовленных хожа-тых», предоставив им возможность обучения в школах общественного призрения с получением диплома «попечительницы». Причем обучение должно осуществляться на базе среднего или высшего образования [2].
Реальным воплощением поднятых на Конгрессе вопросов стало появление при частном Психоневрологическом институте в Санкт-Петербурге научно-исследовательской лаборатории «Общественное призрение», в рамках которой впервые в России началась разработка программ подготовки будущих специалистов в области общественного призрения [3]. Под крышей института организовывались учебно-вспомогательные учреждения для проверки знаний и отработки практических умений студентов, выпускников и самих преподавателей: вспомогательная школа для отсталых детей, школа для глухонемых детей, лазареты для раненых воинов и инвалидов, пришедших с фронта, клиника нервных и душевных болезней [2].
После Первого съезда русских деятелей по общественному и частному призрению при благотворительных обществах и земских управах начали организовываться различные курсы сроком от нескольких месяцев до одного года, где обучение проходили люди, работавшие в данной организации.
В целом, как отмечает В. В. Тевлина, в России к 1917 году сформировались предпосылки и основы для профессионального обучения и деятельности в области социальной работы с системой институтов социальной помощи и поддержки различных категорий населения, программами профессиональной подготовки, первыми учебными курсам на базе столичных институтов, благотворительных организаций, обществ и учреждений, а также были сделаны попытки создания научноисследовательских лабораторий по проблемам общественного призрения. Однако процесс становления профессии в России в начале XX века носил скорее общественноблаготворительный, нежели государственный характер и не смог сформироваться в систему подготовки социальных работников на базе высших и средних учебных заведений, как это уже происходило в Англии, Германии и Швеции [2, с. 123—124].
Таким образом, в рамках второй половины XIX — начала XX века можно говорить лишь о некоторых элементах процесса формирования системы профессиональных кадров в сфере общественного призрения. При этом с большой долей уверенности о профессиональности подготовки вообще, и о работе в этой сфере в Симбирской губернии, на наш взгляд, можно заявлять только по отношению учреждений общественного призрения такой функциональной направленности, как учреждения лечебной помощи. Именно в данной отрасли призрения профессиональная подготовка кадров достаточно быстро развивалась и совершенствовалась.
Справедливым является мнение В. В. Тев-линой [2, с. 117], считающей исходной точкой процесса становления социальной работы как профессиональной деятельности труд женских общин сестер милосердия. Ведь все члены организации, прежде чем приступить к работе, должны были пройти курс обучения по специально разработанной программе и получить соответствующий аттестат. Первая такая община, своеобразный монастырь в миру, была создана в 40-х годах XIX века в Санкт-Петербурге. К началу Первой мировой войны было зарегистрировано уже более 100 общин, а к середине 1917 года в боевых порядках русской армии работало уже 30 тысяч сестер милосердия, 20 тысяч из которых вышли из стен епархиальных общин [4].
В Симбирской губернии к началу XX века имелось 2 общины сестер милосердия: в городе Симбирске (с 1879 года) и в Ардатове (с 1897 года).
Симбирская община милосердия Красного Креста располагалась на углу Сенной площади и Лисиной улицы (ныне улицы Ульянова и Карла Либкнехта). Весь личный персонал общины (на 1891 год) состоял из 24 сестер и 8 испытуемых [5]. Сестры общины командировались в дома для ухода за больными, по требованию земства — в уезды на эпидемии. При общине были амбулатория для приходящих больных и лазарет на 15 коек, где неимущие пользовались бесплатным лечением [6]. В лазарете, кроме лечения больных, проводились практические занятия для сестер милосердия по уходу за больными, особенно с хирургическими заболеваниями. Будущие специалисты принимали участие в операциях; под руководством врачей анестезировали оперируемых, подавали инструменты и перевязочный материал; изучали асептику и антисептику, применяя эти знания при лечении больных в послеоперационный период. Только за 1911—1912 годы в больнице общины было излечено свыше 400 больных. Кстати, для будущих сестер милосердия было организовано даже изучение языка эсперанто.
Ардатовская община являлась малокомплектной: 1 сестра и 3 испытуемых, но польза от ее деятельности была значительной. За 1898 год в земских больницах уезда они оказали услуги по уходу 356 больным, 17 из которых были дети, также на дому помощь была оказана 40 лицам [7].
В целом же, при безусловно полезной профессионально выполняемой деятельности сестер, содержание их для местных бюджетов было весьма накладным: за практику каждой сестры в частных домах взималась плата 15 рублей в месяц при готовом содержании, за работу же сестер в уездах на эпидемиях земство платило сестрам 25 рублей в месяц, предоставляя квартиру с отоплением и освещением [6, л. 1]. Именно это явилось основной причиной неудачи попытки повсеместного введения в лечебные учреждения страны на государственном уровне подготовленных специалистов медико-социального профиля, замены ими больничных сиделок. Можно сказать, что шанс, предоставленный для создания медико-психолого-социальной профессиональной системы помощи был не только упущен, но и воспринят достаточно негативно главами губернских властей, не желавшими менять сложившуюся кадровую политику в социальной сфере [2, с. 118].
Тем не менее, деятельность общин сестер милосердия Российского общества Красного Креста (РОКК) напрямую решала задачи социальной поддержки и помощи населению, став своеобразным полигоном для разработки, внедрения и анализа учебно-практических технологий медико-социальной, социальнопсихологической и педагогической направленности. Сами же члены общественной благотворительной организации не только взяли на себя функции социальных работников, но и стремились учиться и одними из первых профессионально выполнять эту сложную работу [2, с. 118].
В данном русле действовали и земства, достигшие наряду с городскими самоуправлениями значительных успехов в медицинском обслуживании населения. Земские и городские врачи считали своим долгом оказывать благотворительную медицинскую помощь неимущим. Однако врачей было мало, и число их достаточно медленно увеличивалось. В частности, в Симбирской губернии в 1875 году насчитывалось всего 42 врача, в 1915 году — только 96 [8]. Поэтому во второй половине XIX века в стране появляются фельдшерские школы, дающие курс медицинского обучения по специальной программе, разработанной и утвержденной медицинским советом в 1872 году, дополненной в 1897 и 1903 годах.
В Симбирском крае подобная школа по инициативе земства появилась при губернской земской больнице еще 15 августа 1869 года. Ученики школы, курс которой длился 3,5 года, разделялись на три разряда: полные стипендиаты (не более 8 человек) находились на полном содержании земства, неполные стипендиаты, то есть ученики, получавшие только пищу, и вольные слушатели. При этом полные стипендиаты обязывались служить земству в течение 7 лет, неполные — 3,5 года.
Однако уже с 1872 года в Земское собрание стали поступать протесты от гласных, вызванные уклонением половины новоиспеченных фельдшеров от земской службы, в то время когда каждый выпускник стоил земству 1000 руб. Кроме того, от уездных земств поступали заявления, что они не нуждаются в кандидатах на замещение мест фельдшеров, то есть земство не могло предоставить выпускникам школы работу. В итоге, в 1880 году Губернское земское собрание признало расход по этой статье нецелесообразным, и фельдшерскую школу закрыли сразу после выпуска курса в 1883 году.
Медицинское дело в уездах оказалось в руках неквалифицированных, неподготовленных работников. Недостаток опытных фельдшеров с каждым годом чувствовался все сильнее и вызывал справедливое недовольство врачей и населения. Некоторыми уездными земствам вновь поднимался вопрос об открытии фельдшерской школы, но Губернское земство каждый раз отклоняло подобные предложения. Только эпидемии холеры и сыпного тифа, показавшие все недостатки и неудовлетворительность подготовки земского фельдшерского персонала, убедили Земское собрание вновь открыть собственную школу.
Открытие состоялось 16 сентября 1895 года. Было принято 30 учениц и 10 учеников [9]. Преподаватели, опытные врачи заботились о практической подготовке учащихся. По новому Уставу 1906 года фельдшерская школа содержалась за счет земства. Зачислялось не более 25 человек, обоего пола не моложе 16 лет и не старше 30, с начальным образова- нием [10], по два кандидата от каждого уездного земства, остальные 9 человек принимались по усмотрению губернской управы [10, л. 39]. Однако в 1913 году было принято 40 человек, из них 9 мужчин [10, д. 104, л. 19—20], что свидетельствует о потребности губернии в подобных кадрах.
Тем не менее, рассматривая проблему эффективности и полезности данной организации для губернии, необходимо отметить, что к 1909 году на службе в земстве насчитывалось всего 30 выпускников фельдшерской школы, причем половина из них окончили курс уже во второй фельдшерской школе [11].
Относительно качественных характеристик данных профессиональных кадров ситуацию иллюстрируют мнения земских врачей. Например, высказывание врача Убеев-ской земской больницы Буинского уезда о троих воспитанниках фельдшерской школы (двое работали от 5 до 7 лет и один полгода): «…поражает качественная сторона их службы. При всей своей неподготовленности и малой опытности они обладают большим самомнением и недостаточно чутко и внимательно относятся к больным, мало заботятся о дальнейшем развитии своих знаний» [11, л. 44 об.]. Однако данное мнение можно считать единичным, распространенным являлось иное суждение, что «своей научной подготовкой и нравственными качествами выпускники школы вполне удовлетворяют служебным требованиям» [11, л. 21, 27].
В целом, в условиях недостаточности медицинского персонала в губернии, работа фельдшерской школы по подготовке профессиональных медицинских кадров являлась насущной потребностью. Более того, земство принимало активные меры для развития и расширения базы профессиональной подготовки медицинских кадров. Так, в 1893 году, в условиях острой нужды в подготовленных медицинских работниках земством были организованы курсы для подготовки санитарных работников, по уходу за холерными больными и производству дезинфекции при холере. Принимались лица обоего пола не моложе 18 лет, грамотные, но в виде исключения брали и безграмотных, но толковых. Срок обучения составлял 2—3 недели . Всего при губернской земской больнице было подготовлено 38 санитарных работников, при прочих земских больницах — 564 человека [12]. Данная мера оказалась весьма полезной.
В 1901 году при Симбирской фельдшерской школе были учреждены курсы повивальных бабок [13], а с 15 сентября 1904 года открылась повивальная школа второго разряда, куда было принято 22 ученицы, окончившие курс в фельдшерской школе [12, д. 1208, л. 1]. Обучение продолжалось целый год, причем основной упор делался на наработку практических навыков. В частности, теория преподавалась лишь в течение часа ежедневно, еще шесть часов — практика в больнице. В приемном покое ежедневно дежурили по две ученицы. Каждая из них обязана была принять самостоятельно за срок обучения не менее пяти родов и сдать выпускные экзамены. Причем ученицы, которые могли быть только вольнослушающими, освобождались от платы за обучение и обязательной службы в земстве по окончанию курса [12, д. 1208, л. 28]. В 1912 году школа была переведена в первый разряд, что давало окончившим её акушеркам право практики в городе.
Таким образом, благодаря активной работе Российского общества Красного Креста, его местного отделения, а также прогрессивной деятельности земства, достигшего в сфере развития губернской медицины больших успехов, благотворительные учреждения края лечебной функциональной направленности приобрели значительное количество профессионально подготовленных кадров, оказывающих наряду с чисто медицинской помощью помощь социально-бытовую, а также не менее важную психологическую поддержку нуждающимся.
Относительно формирования профессиональных кадров благотворительных учреждений губернии прочей функциональной направленности говорить можно только о самообучении и взаимообучении служащих в них лиц. Личный опыт здесь играл первостепенную роль. В данных условиях проблема поиска более или менее соответствующих критериям кандидатов стояла чрезвычайно остро. В частности, весьма затруднительно было найти людей, знающих уход за грудными детьми (заведующих яслями и подготовленную прислугу). Следствием этого являлся низкий процент призреваемых в симбирских яслях детей грудного возраста, не более 15 % всех приходящих детей. Ясли посещали в основном более взрослые дети от 2 до 5, и от 5 до 10 лет [14]. Заведование яслями особого типа, предназначенными для лечения и восстановления сил ослабленных детей, где был установлен более тщательный уход, улучшено питание, поручалось преимущественно фельдшерицам или учительницам под постоянным наблюдением врача. По документальным свидетельствам, некоторых фельдшериц пришлось выписывать из Санкт-Петербурга [14, с. 345]. Данное обстоятельство лишний раз свидетельствует об острой недостаточности среднего медицинского персонала в провинции.
В целом, основная деятельность в сфере безвозмездной помощи нуждающимся в губернии выполнялась членами благотворительных общественных организаций, обществ и попечительств, работниками социальных учреждений, добровольцами-волонтерами на началах само- и взаимообучения, при отсутствии необходимой профессиональной подготовки, что не всегда перекрывалось чувством сострадания и самопожертвования и не могло не сказываться на качестве работы. Скорее общественно-благотворительный, нежели государственный характер становления профессии в России в начале XX века предопределил медленное развитие так и не сформировавшейся в рамках дореволюционной России системы подготовки профессиональных кадров в социальной сфере.
-
1. Труды I съезда русских деятелей по общественному и частному призрению. СПб., 1910. С. 1.
-
2. Тевлина В. В. Социальная работа в России в конце XIX — начале XX века // Вопросы истории. 2002. № 1. С. 122.
-
3. Антология социальной работы / сост. М. В. Фирсов. Т. 1. М., 1994. С. 178.
-
4. Бураков Ю. Н. Утоли моя печали // Наука и религия. 1991. № 10. С. 46.
-
5. Симбирский губернский вестник. 1892. 1 июля. № 45. С. 6.
-
6. ГАУО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 15. Л. 3 об.
-
7. ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1212. Л. 83 об.—84.
-
8. ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 69. Л. 86; Обзор Симбирской губернии за 1915 год. Симбирск, 1916. С. 25.
-
9. Мартынов П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования. Симбирск, 1898. С. 179.
-
10. ГАУО. Ф. 46. Оп. 14. Д. 82. Л. 5—5 об.
-
11. Посчитано по: ГАУО. Ф. 46. Оп. 14. Д. 82. Л. 19—45.
-
12. ГАУО. Ф. 88. Оп. 3. Д. 205. Л. 3, 9, 13.
-
13. Журналы Симбирского Губернского земского собрания очередной сессии 1901 г. Симбирск, 1902. С. 290.
-
14. Трудовая помощь в губерниях Казанской, Вятской и Симбирской, оказанная в 1899 г. попечительством о долгах трудолюбия и работных домах. Отчет уполномоченного. СПб., 1900. С. 344.
Список литературы Предпосылки и проблемы формирования системы подготовки кадров, занятых в сфере социальной поддержки населения (на материалах Симбирской губернии)
- Труды I съезда русских деятелей по общественному и частному призрению. СПб., 1910. С. 1.
- Тевлина В. В. Социальная работа в России в конце XIX -начале XX века//Вопросы истории. 2002. № 1. С. 122.
- Антология социальной работы/сост. М. В. Фирсов. Т. 1. М., 1994. С. 178.
- Бураков Ю. Н. Утоли моя печали//Наука и религия. 1991. № 10. С. 46.
- Симбирский губернский вестник. 1892. 1 июля. № 45. С. 6.
- ГАУО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 15. Л. 3 об.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1212. Л. 83 об.-84.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 69. Л. 86; Обзор Симбирской губернии за 1915 год. Симбирск, 1916. С. 25.
- Мартынов П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования. Симбирск, 1898. С. 179.
- ГАУО. Ф. 46. Оп. 14. Д. 82. Л. 5-5 об.
- Посчитано по: ГАУО. Ф. 46. Оп. 14. Д. 82. Л. 19-45.
- ГАУО. Ф. 88. Оп. 3. Д. 205. Л. 3, 9, 13.
- Журналы Симбирского Губернского земского собрания очередной сессии 1901 г. Симбирск, 1902. С. 290.
- Трудовая помощь в губерниях Казанской, Вятской и Симбирской, оказанная в 1899 г. попечительством о долгах трудолюбия и работных домах. Отчет уполномоченного. СПб., 1900. С. 344.