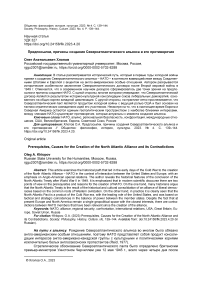Предпосылки, причины создания Североатлантического альянса и его противоречия
Автор: Хлопов Олег Анатольевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается исторический путь, который в первые годы холодной войны привел к созданию Североатлантического альянса - НАТО - в контексте взаимодействия между Соединенными Штатами и Европой с акцентом на англо-американские особые отношения. Автором раскрываются исторические особенности заключения Североатлантического договора после Второй мировой войны в 1949 г. Отмечается, что в современном научном дискурсе сформировалось две точки зрения на предпосылки и причины создания НАТО. C одной стороны, многие историки утверждают, что Североатлантический договор является результатом историко-культурной консолидации союза либеральных демократий, основанного на общих корнях западной цивилизации. С другой стороны, на практике четко прослеживается, что Североатлантический пакт является продуктом холодной войны с ведущей ролью США и был основан на тактико-стратегических совпадениях идей его участников. Несмотря на то, что в настоящее время Европа и Северная Америка остаются единым геополитическим пространством с наиболее близкими интересами, между членами НАТО существуют противоречия, которые актуальны с момента создания альянса.
Нато, альянс, региональная безопасность, конфронтация, международные отношения, сша, великобритания, европа, советский союз, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/149142238
IDR: 149142238 | УДК: 327 | DOI: 10.24158/fik.2023.4.20
Текст научной статьи Предпосылки, причины создания Североатлантического альянса и его противоречия
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия, ,
Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, ,
На пути к альянсу . Рождение Североатлантического альянса во многом было обязано англо-американским особым отношениям, поэтому НАТО представляет собой продукт консолидации интересов англо-американо-канадской группы с культурными и политическими корнями исключительно белых англосаксонских протестантов (Reid, 1977).
Стратегическое обоснование Североатлантического пакта было определено британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем уже 12 мая 1945 г., всего через четыре дня после
окончания военных действий в Европе. Черчилль сообщал президенту США Гарри Трумэну: «Я глубоко обеспокоен положением в Европе. Каким оно будет через год или два, когда британская и американская армии растают, а французская еще не сформирована? В любом крупном масштабе, когда у нас есть горстка дивизий, в основном французских, и когда Россия может оставить две или три сотни дивизий на действительной службе»1.
Менее чем через год, 5 марта 1946 г., У. Черчилль, как лидер оппозиции, в своей знаменитой речи в Фултоне, в которой он впервые публично употребил выражение «железный занавес», выступил за «братскую ассоциацию народов, говорящих по-английски» и, в частности, за «особые отношения между Британским Содружеством, Великобританией и Соединенными Штатами». «Если прибавить население англоязычных Содружеств к населению Соединенных Штатов со всеми вытекающими последствиями такого сотрудничества в воздухе, на море, по всему земному шару, в науке, в промышленности и в моральной силе – не будет шаткого, ненадежного баланса сил, который соблазнял бы честолюбие или авантюру. Наоборот, будет абсолютная уверенность в безопасности»2.
Месяц спустя британские начальники штабов в присутствии премьер-министра лейбористской партии Клемента Эттли и министра иностранных дел Великобритании Эрнеста Бевина обсудили первый документ, в котором Советский Союз указывался как единственный вероятный враг Великобритании. Чтобы добиться участия Америки, требовалось, чтобы Вашингтон мог полностью осознать советскую угрозу и был готов противостоять ей.
В 1947 г. роли поменялись местами: американцы стали иногда подозревать британцев в нейтралистских тенденциях, в то время как Лондон скептически относился к американским заявлениям, бросающим вызов Советскому Союзу, таким как «доктрина Трумэна», особенно если они не были подкреплены конкретными фактами. Через «План Маршалла» Соединенные Штаты продемонстрировали свою готовность решать проблемы Европы с помощью экономических инструментов, но время для военного вмешательства еще не пришло. В ноябре 1946 г. Штаб по планированию политики США, признавая необходимость восстановления определенного баланса сил в Европе и Азии, подчеркивал роль местных властей, которые должны были взять на себя часть бремени США. Американский посол в Лондоне оптимистично указал, что эволюция Содружества обещает усилить политическую и военную роль Великобритании (Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945–1950 …, 1978).
События, ведущие к Атлантическому пакту, вступил в свою решающую фазу в ноябре – декабре 1947 г. по инициативе министра иностранных дел Великобритании Эрнста Бевина, изложившего свои идеи госсекретарю США Джорджу Маршаллу, министру иностранных дел Франции Жоржу Бидо и Верховному комиссару Канады Норману Робертсону. Эти три страны представляли собой «три круга» британской внешней политики: Британское Содружество, Великобритания, англоязычные страны и Европа. На встрече с Д. Маршаллом Э. Бевин объяснил, что его собственная идея заключалась в том, чтобы разработать некую западную демократическую систему, включающую США, Великобританию, Францию, Италию, в рамках союза, основанного на взаимопонимании, подкрепленного силой, финансами и решительными действиями.
В 1948 г. Э. Бевин представил Канаде и Соединенным Штатам план, основанный на системах безопасности: 1) Великобритании, Франции и Бенилюкса при поддержке Соединенных Штатов; 2) Атлантики, в которой Соединенные Штаты будут заинтересованы еще больше; 3) Средиземноморья, которая особенно затронет Италию» (Levenberg, 1991).
Реакция Оттавы и Вашингтона была положительной. Секретные переговоры между Канадой, Великобританией и США проходили в Пентагоне с 22 марта по 1 апреля 1946 г. Франция не была приглашена на них.
В ходе переговоров в Пентагоне была одобрена идея создания соглашения о коллективной обороне и был разработан договор, очень похожий на будущий Атлантический пакт. 7 июля в Вашингтоне начались предварительные переговоры по безопасности с участием Канады, США и пяти членов Брюссельского пакта (Бельгия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Соединенное Королевство) (The Atlantic Pact Forty Years Later: a Historical Reappraisal …, 1991).
Франция потребовала гарантии ее безопасности и территориальной целостности в виде оружия и снаряжения для восстановления своей армии и скорейшего развертывания американских войск на французской земле. Через несколько месяцев после подписания Атлантического пакта 4 апреля 1949 г.1 Лондону пришлось принять Францию в состав Постоянной группы, чтобы избежать ощущения англо-американской гегемонии в НАТО.
События 1950-1953 гг. на Корейском полуострове, обострение германского вопроса, а также революция 1949 г. в Китае способствовали военно-политической консолидации Запада против «коммунистического наступления». Западноевропейские страны и США сформировали геополитическую конструкцию, которая стала служить инструментом давления на СССР и одновременно оказывать западным державам помощь в достижении политических, экономических и военных целей (Пилько, 2008).
Идеологические предпосылки образования НАТО: роль США . Преамбула и ст. 2 Договора выражали стремление к созданию чего-то большего, чем просто военный союз, но на практике эти положения так и не были реализованы2. Многие эксперты полагают, что Североатлантический альянс стал продуктом холодной войны, но ряд исследователей утверждают, что его исторические и культурные основания намного старше.
В сентябре 1955 г. в Риме на X Международном конгрессе исторических наук была организована сессия «Проблемы Атлантики XVIII и XX века» с участием видных историков. Вводный отчет был подготовлен Жаком Годешо и Ричардом Палмером, которые изучали эпоху «атлантических революций», потрясших Европу и Америку между 1770–1820 гг. Обсуждая этот отчет, британский историк сэр Чарльз Вебстер утверждал, что регионализация мира была темой для обсуждения с момента зарождения современной историографии, но Атлантика не предлагалась в качестве «региона» до Второй мировой войны, и что новое сообщество может быть временным явлением. Оно создано политикой СССР, и если она изменится, то может измениться и Атлантическое сообщество3.
Несколько лет спустя это видение было оспорено итальянским либеральным историком Витторио де Капрариисом. О долгосрочной «культурной истории» Атлантического альянса он писал как о «новой цивилизации», которая в Новое время действительно зародилась в Атлантике, и определил ее как «согласованное развитие европейской и американской истории». НАТО, по его мнению, стала «не только результатом конкретной случайной ситуации, но и финишной чертой исторического процесса, в то же время многообразного и однозначного» (De Caprariis, 2006).
Французскую революцию обычно считают гораздо более важным событием в мировой истории, чем американскую. Но в долгосрочной перспективе Франция не изменила традиционной системы силовой политики, а рождение независимых Соединенных Штатов Америки ознаменовало собой серьезный перелом в мировой политике, который стал очевидным через столетие спустя.
Глубокая вера в превосходство Соединенных Штатов выражается в таких понятиях, как «сияющий город на холме», «незаменимая нация» или «последняя надежда человечества», часто встречающихся в американской политической риторике. Интервенции Соединенных Штатов в Европе были мотивированы необходимостью противостоять великим державам, враждебным их ценностям и интересам, и давали возможность установить на этих территориях американскую модель построения государства.
В 1906 г. на конференции в Альхесирасе по Марокко президент Ф. Рузвельт поддержал позиции Франции и Великобритании, которые в некоторых американских депешах именовались «атлантическими державами». Политик был убежден в том, что Соединенные Штаты должны выполнять свои обязанности великой державы с глобальными интересами и ответственностью.
В то же время исторические исследования западных ученых об истоках Североатлантического пакта ясно показывают, что уже в ходе обсуждения возможности создания США и западными странами политико-стратегического союза возникли разногласия, несмотря на общее политическое и военное противостояние с Советским Союзом. Уже в начале 1950-х гг. генерал Шарль де Голль охарактеризовал президента США Линдона Джонсона как «величайшую угрозу миру» (Kahler, 2005).
В сентябре 1952 г. Г. Макмиллан, премьер-министр Великобритании, сетовал на «наиболее заметную и болезненную разницу между нашим положением сейчас и в то время, когда мы последний раз были у власти (1945 г.), – это наши отношения с США. Тогда мы были на равных как уважаемый союзник. Сейчас американцы к нам относятся со смесью покровительственной жалости или презрения – хуже, чем к любой другой стране Европы» (Macmillan, Catterall, 2003).
Противоречия среди членов альянса . Преамбула и ст. 2 Североатлантического договора 1949 г. 1 выражали стремление к созданию чего-то большего, чем просто военный союз. В 1950-х гг. были предприняты усилия к формированию «атлантического сообщества».
В повестку дня Североатлантического совета, проходившего в Лондоне 15–18 мая 1950 г., были включены инициативы по развитию ст. 2 указанного документа. Канада выступала за ее сохранение во время переговоров по Атлантическому пакту как по тактическим внутренним мотивам, чтобы облегчить поддержку франкоязычного сообщества, так и по стратегическим международным причинам. В частности, Оттава искала многосторонний противовес гегемонии США на американском континенте и была обеспокоена инициативами по экономической интеграции европейских стран. Италия, которая не заключала договор и имела самую сильную коммунистическую партию в Западной Европе, стремилась изменить чисто военный характер Атлантического союза и, возможно, получить дополнительные экономические преимущества.
В сентябре 1951 г. Североатлантический совет в Оттаве с участием министров иностранных дел, обороны и экономики государств-членов обсудил вопрос о создании министерского комитета из пяти членов для изучения развития «атлантического сообщества». В частности, говорилось о необходимости координации действий и проведения частых консультаций по внешней политике с уделением особого внимания шагам, направленным на укрепление мира, более тесное экономическое, финансовое и социальное сотрудничество, ориентированное на создание условий экономической стабильности и благополучия как во время, так и после периода усиления интеграции с целью обороны в рамках Организации Североатлантического договора или через другие агентства, а также на сотрудничество в области культуры и общественной информации.
Однако в данном документе было отмечено, что некоторые представители совещания сомневались в том, что часть этих тем когда-либо станет предметом активного рассмотрения в НАТО, но это не помешало создать длинный ряд рекомендаций. Это был «список желаний», который нашел скромную реализацию, например, в образовании 18 июня 1954 г. Ассоциации Атлантического договора и в 1955 г. Североатлантической парламентской ассамблеи – двух органов, формально независимых от НАТО.
В декабре 1955 г. Североатлантический совет в Париже признал, что недавние события в международной обстановке сделали более необходимым, чем когда-либо, более тесное сотрудничество между членами Североатлантического союза, как это предусмотрено в ст. 2 Договора2.
Комитету из «трех мудрецов» – итальянцу Гаэтано Мартино, канадцу Лестеру Пирсону и норвежцу Халварду Ланге – министрам иностранных дел своих стран было поручено представить доклад о «невоенном сотрудничестве в НАТО». В документе отмечалось, что «межсоюзнические отношения также претерпели серьезное напряжение. Альянс, в котором члены игнорируют интересы друг друга, участвуют в политических или экономических конфликтах или питают подозрения друг к другу, не может быть эффективным ни для сдерживания, ни для обороны3. По вопросу «вне зоны действия» сообщалось, что НАТО не должна забывать о том, что влияние и интересы входящих в объединение государств не ограничиваются районом, охватываемым Североатлантическим договором4 и что общие интересы Атлантического сообщества могут быть затронуты событиями за пределами зоны его действия.
Созданное в 1957 г. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) удовлетворило стремление европейцев к общности интересов вне военной сферы, что осталось исключительной компетенцией НАТО. В начале 1960-х гг. Вашингтон, ранее поощрявший такую интеграцию, начал возмущаться экономической конкуренцией европейских стран. 22 января 1963 г. президент США Дж. Кеннеди сделал следующее заявление на заседании Совета национальной безопасности: «Одно из усилий, которое мы должны предпринять – попытаться предотвратить действия европейских государств, которые усугубляют проблему нашего платежного баланса. Например, мы держим большие силы в Германии. Мы должны решительно выступить против Западной Германии, если она увеличит свое сельскохозяйственное производство в ущерб нам… Мы не можем продолжать платить за военную защиту Европы, в то время когда государства НАТО не платят свою справедливую долю… Европейские государства больше не зависят от США в плане экономической помощи, меньше подвержены нашему влиянию. Если французы и другие европейские державы приобретут ядерный потенциал, они смогут стать полностью независимыми, а мы можем наблюдать за ними со стороны. Мы должны использовать наше военное и политическое положение для обеспечения защиты наших экономических интересов»1.
В начале 1970-х гг. президент Р. Никсон поднял ту же проблему, отметив, это для США неприемлемо, когда европейцы, защищенные американцами, хотят процветать за счет экономического соревнования с США. Он заявил на пресс-конференции 15 марта 1974 г., что «европейцы не могут сотрудничать с Соединенными Штатами на фронте безопасности и одновременно продолжать конфронтацию и даже враждебность на экономическом и политическом фронтах»2.
Все американские президенты с большей или меньшей энергией озвучивали призывы к западным странам тратить больше средств на оборону, особенно когда они чувствовали, что Европа является одновременно протеже США и растущим экономическим конкурентом для них. Д. Трамп заявил в июле 2018 г., что ЕС – враг США из-за конкуренции в торговле3. Однако во время холодной войны американский ядерный арсенал был гарантией безопасности Западной Европы, что делало необязательным призыв к перераспределению бремени между членами объединения.
Если в 1958 г. было предсказано, что НАТО может стать «политическим мозгом Запада» (De Caprariis, 2006), то в 2019 г. президент Франции Э. Макрон объявил о «смерти мозга НАТО»4.
Очевидно, что Североатлантический альянс создан на основе общих истоков цивилизации и современных принципов эпохи либеральной демократии и свободы, которые объединили страны Западной Европы друг с другом, с Соединенными Штатами Америки и Канадой.
Однако период холодной войны разделил две эпохи, во время которых подход европейских стран и США к международной политике был совершенно разным. Североатлантический альянс сформировался как политический союз, основанный не только с целью консолидации общих исторических и цивилизационно-культурных характеристик и создания системы коллективной обороны, но и для сдерживания Советского Союза.
Борьба «за свободу, западные ценности и интересы», призывавшая к более тесному сотрудничеству, к полноправному членству в нем даже стран, не принадлежащих к западной цивилизации, стала главной стратегической идеей будущего альянса и оправданием для его расширения.
Во время холодной войны внутри споры между Европой и США не были явными, поскольку существовало полное согласие в отношении определения общего врага. Однако даже в этот период было невозможно создать настоящее «атлантическое сообщество» ввиду обозначившихся противоречий между основными членами альянса, а сегодня это почти нереально, когда в НАТО входят 30, а не 16 членов, внешнеполитические программы большинства из которых не совпадают.
Сегодня Североатлантический альянс по-прежнему остается ключевым военно-политическим союзом и международной организацией, однако все острее встает вопрос, какую ценность в ближайшем обозримом будущем он будет иметь для его участников (возрастающую или уменьшающуюся), сможет ли НАТО адаптироваться к формирующееся новой системе международных отношений.
Список литературы Предпосылки, причины создания Североатлантического альянса и его противоречия
- Пилько А.В. У истоков «холодной войны»: создание НАТО и его последствия (1947-1955) // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2008. № 2. С. 22-38.
- Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945-1950 / eds.: J.L. Gaddis, T.H. Etzold. N. Y., 1978. 449 р.
- De Caprariis V. Storia di Un’alleanza. Genesi e Significato del Patto Atlantico. Roma, 2006. 301 p.
- Kahler M. US Politics and Transatlantic Relations: We are All Europeans Now // The Atlantic Alliance under Stress: US-European Relations after Iraq. Cambridge, 2005. Р. 81-101.
- Levenberg H. Bevin’s Disillusionment: The London Conference, Autumn 1946 // Middle Eastern Studies. 1991. Vol. 27, iss. 4. P. 615-630.
- Macmillan H., Catterall P. The Macmillan Diaries : in 2 v. Vol. 1: The Cabinet Years, 1950-1957. L., 2003. 676 p.
- Reid E. Time of Fear and Hope: The Making of the North Atlantic Treaty. 1947-1949. Toronto, 1977. 315 p.
- The Atlantic Pact Forty Years Later: a Historical Reappraisal / ed.: E. Di Nolfo. Berlin, 1991. 268 р.