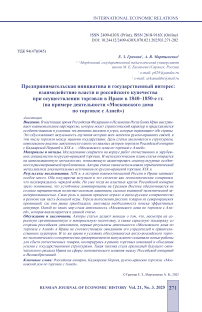Предпринимательская инициатива и государственный интерес: взаимодействие власти и российского купечества при осуществлении торговли в Иране в 1840–1850-е гг. (на примере деятельности «Московского дома по торговле с Азией»)
Автор: Грачева Е.З., Мартыненко А.В.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Международные экономические отношения
Статья в выпуске: 3 (70) т.21, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В настоящее время Российская Федерация и Исламская Республика Иран выстраивают взаимовыгодное партнерство, которое носит стратегический характер и представляется особенно важным в условиях тех внешних вызовов и угроз, которые переживают обе страны. Это обусловливает актуальность изучения истории всех аспектов русско-иранских связей, в том числе торговли между нашими государствами. Цель статьи заключается в структурном, комплексном анализе деятельности одного из важных акторов торговли Российской империи с Каджарской Персией в XIX в. – «Московского дома по торговле с Азией». Материалы и методы. Исследование опирается на корпус работ отечественных и зарубежных специалистов по русско-иранской торговле. В методологическом плане статья опирается на цивилизационную методологию, позволяющую акцентировать социокультурные особенности рассматриваемой проблематики. Авторы статьи также использовали герменевтический метод анализа документальных источников по русско-иранской торговле XIX в. Результаты исследования. XIX в. в истории взаимоотношений России и Ирана занимает особое место. Оба государства вступали в это столетие как геополитические соперники, что подтверждалось чередой войн. Но уже тогда во властных кругах Российской империи зрело понимание, что устойчивое доминирование на Среднем Востоке обеспечивается не столько перманентным политико-силовым давлением, сколько взаимной экономической заинтересованностью. Свою роль в данном процессе играло и англо-русское соперничество в регионе как часть Большой игры. Угроза вытеснения русских товаров из североиранских провинций, где они ранее преобладали, диктовала необходимость поиска эффективных контрмер. Одной из таких мер стала деятельность «Московского дома по торговле с Азией», которая анализируется в данной статье. Обсуждение и заключение. Авторы статьи делают выводы о том, что, несмотря на серьезную организационную и материальную подготовку, а также серьезную поддержку со стороны российских дипломатов, первые результаты деятельности «Московского дома по торговле с Азией» в Иране не соответствовали ожиданиям его учредителей и правительственных кураторов. В то же время в условиях обострившегося англо-российского торгово-экономического соперничества предприниматели вынужденно осваивали новые районы для сбыта отечественных товаров, кооперируясь в рамках торговых компаний и объединяя усилия с государственными структурами. Такая тактика стала прелюдией будущего окончательного раздела Ирана на сферы экономического влияния между Российской империей и Великобританией.
Российская империя, Каджарская Персия, русско-иранская торговля, «Мос-ковский дом по торговле с Азией»
Короткий адрес: https://sciup.org/147252135
IDR: 147252135 | УДК: 94(47)(045) | DOI: 10.24412/2409-630X.070.021.202503.271-282
Текст научной статьи Предпринимательская инициатива и государственный интерес: взаимодействие власти и российского купечества при осуществлении торговли в Иране в 1840–1850-е гг. (на примере деятельности «Московского дома по торговле с Азией»)
Отношения России и Ирана прошли долгий, многовековой путь, на котором, несмотря на сложные периоды, связанные с соперничеством и открытыми военными столкновениями, неуклонно развивалось экономическое и культурное взаимодействие. В настоящее время Российская Федерация и Исламская Республика Иран выстраивают взаимовыгодное партнерство, которое носит стратегический характер и представляется особенно важным в условиях тех внешних вызовов и угроз, которые переживают обе страны. Это обусловливает актуальность изучения истории всех аспектов русско-иранских связей, в том числе торговли между нашими государствами.
Данное исследование представляет собой анализ деятельности одного из важных акторов торговли Российской империи с Каджарской Персией в XIX в. – «Московского дома по торговле с Азией».
Обзор литературы
Исследование опирается на корпус работ отечественных и зарубежных специалистов по заявленной тематике.
Так, дореволюционными исследователями русско-иранского экономического взаимодействия были Ф. А. Бакулин [3], Н. И. Березин [4], И. Ф. Бларамберг [5], Л. Ф. Богданов [6], Ю. А. Гагемейстер [7; 8].
Среди советских и постсоветских исследователей русско-иранской торговли авторы хотели бы особо выделить своего Учителя и Наставника, Нихаму Гершоновну Куканову, ученого-ираниста и Преподавателя с заглавной буквы, светлой памяти которой посвящается данная статья. В тексте использованы материалы из исследования Н. Г. Кукановой «Очерки по истории русско-иранских торговых отношений в XVII – первой половине XIX века: (По материалам русских архивов)» [13], а также подготовленного и изданного ей сборника документов [21].
Различные аспекты и периоды русско-иранской торговли также анализировали в своих работах Х. А. Атаев [2], Л. М. Кулагина [14], В. Н. Шкунов [24; 25], О. К. Павлова [17], И. В. Поткина [18], А. И. Юхт [26], а также авторы данной статьи [9; 10].
Англо-русское соперничество в Персии, ставшее важнейшим сегментом небезызвестной Большой игры, исследовали в своих трудах Б. В. Ананьич [1], О. И. Жигалина [11]. Политическая история Ирана, в том числе история межгосударственных отношений Российской империи и Каджарской Персии, отражена в работах Н. А. Кузнецовой [12], С. А. Маркаряна [15], М. Х. Махдияна [16].
Среди исследований зарубежных специалистов в статье использованы работы по истории Ирана обобщающего характера (Ж. Ру [19] и Ф. Робинсон [29]), а также по русско-иранским отношениям XVIII – начала ХХ в. (М. Аткин [27] и М. Энтнер [28]).
Материалы и методы
В методологическом плане статья опирается на цивилизационную методологию, позволяющую акцентировать социокультурные особенности рассматриваемой проблематики. Авторы статьи также использовали герменевтический метод анализа документальных источников по русско-иранской торговле XIX в.
Результаты исследования
XIX в. занимает особое место в истории взаимоотношений России и Ирана. Оба государства вступали в это столетие как геополитические соперники, что подтверждалось чередой войн. Но уже тогда во властных кругах Российской империи зрело понимание, что устойчивое доминирование на Среднем Востоке обеспечивается не столько перманентным политико-силовым давлением, сколько взаимной экономической заинтересованностью.
Данное убеждение подкреплялось ря- дом факторов. В первую очередь это исторический опыт торгового общения. Еще с XVII в. – эпохи правления первых Романовых – сформировалась стабильная практика торгового взаимодействия между предпринимателями двух сопредельных государств, была осуществлена правовая регламентация торговли и даже сложилась система преференций для отдельных ее участников. Ярким свидетельством заинтересованности российских властей в налаживании торговых связей с Персией уже тогда является царская жалованная грамота Алексея Михайловича, дарованная членам знаменитой армянской торговой компании Новой Джульфы (предместья Исфахана). В обход жестких для «иноземцев» ограничительных статей Новоторгового устава 1667 г. «ходжа» (армянские торговцы. – Е. Г., А. М.) получили наряду с другими привилегиями право свободного проезда по территории России в Москву и через приграничные города в Европу [13, с. 62].
Еще одним убедительным аргументом в пользу укрепления торговых связей с Ираном был наглядный пример Великобритании – главного геополитического противника России в регионе. Расширение масштабов британского присутствия на Среднем Востоке детерминировалось прежде всего экономическим потенциалом этой страны, и Россия пыталась действовать подобным образом.
1830–1850-е гг. были отмечены стремительным нарастанием конкурентной борьбы между двумя империями за чрезвычайно выгодный персидский рынок сбыта. Судя по источникам, особенно острый характер это соперничество приобрело после заключения англо-иранского торгового соглашения 1841 г., которое установило минимальные торговые пошлины для английских товаров [9, с. 91]. Британская торговая экспансия отличалась высокой продуктивностью и агрессивно-наступательным характером, что было обусловлено объективными причинами. Являясь флагманом капиталистического мира, Великобритания предопределила переход мировой торговли на качественно новый уровень, формируя широкую сеть освоенных торговых путей, обладая более совершенными средствами транспорта, новыми формами организации торговой деятельности, предлагая потенциальным покупателям разнообразный и качественный ассортимент товаров. Россия, располагавшая менее развитой по сравнению с Англией промышленностью и экономическими возможностями, обладала ограниченным инструментарием для обеспечения приоритетных позиций на внешних рынках. Поэтому именно российская власть выступала инициатором во внедрении прогрессивных новаций во внешнеторговую деятельность, побуждая и мотивируя отечественное купеческое сословие активнее торговать на иных принципах в сопредельных странах, включая Иран.
Наконец, внешняя торговля стала заметным фактором экономического развития Российской империи. Рост мануфактурного производства, новых отраслей: хлопчатобумажной, шелкопрядильной, суконной, металлургической – побуждали российских предпринимателей к расширению деятельности, в том числе на внешних рынках. Однако, как уже отмечалось, в связке «государство – торгово-промышленные круги» вторые были ведомыми, возлагая большие надежды на государственный патернализм.
Российское правительство с опасением и озабоченностью воспринимало известия из Ирана. Угроза вытеснения русских товаров, прежде всего мануфактурных, из североиранских провинций, где они ранее преобладали, диктовала необходимость поиска эффективных контрмер. Очевидно, этим можно объяснить появление многочисленных предложений, планов, проектов по изменению ситуации, которые направлялись в правительственные структуры от дипломатических и военных представителей, а также от частных лиц.
Среди обширного корпуса источников, освещающих историю русско-иранских торгово-экономических взаимоотношений в XIX в., особое место занимают до- несения, записки и обзоры пребывавших на службе в дипломатических ведомствах на территории Персии российских консулов и других работников, хранящиеся в нескольких фондах Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ). Консульские материалы являются ценнейшими источниками, свидетельствующими о пристальном внимании российских властей к состоянию дел в важнейших центрах межгосударственной торговли как в Закавказье, так и в персидских провинциях. Часть из них, относящаяся к 1830–1850-м гг., была систематизирована известным советским и российским востоковедом Н. Г. Кукановой и представлена в отдельном сборнике документов. Издание вошло в серию публикаций архивных материалов по истории международных отношений России и продолжило традиции советской школы востоковедения, уделявшей значительное внимание экономическим аспектам взаимодействия со странами Центральной Азии.
Обозначенные составителем сборника хронологические рамки (1830–1850-е гг.) охватывают ключевой этап в развитии русско-иранских отношений, начавшийся после войны 1826–1828 гг. и заключения Тур-кманчайского мира по ее итогам. «Особый акт о торговле российских и персидских подданных», как составная часть договора, обеспечивал правовые основания товарообмена и юридические гарантии его участников. Именно с этого исторического момента, по мнению ведущих отечественных исследователей-иранистов, торговля стала определяющим инструментом российского влияния в регионе [12, с. 59].
В указанном сборнике выделен отдельный раздел, представляющий собой интереснейшую подборку документов, касающихся деятельности «Московского дома по торговле с Азией». История его создания и последующего функционирования, по мнению авторов данной статьи, является рефлексией стратегических планов правительственных кругов России в отношении Ирана в целом, а также особенностей взаи- модействия с предпринимательским сообществом в попытках налаживания стабильного торгового обмена между странами.
Решению данной задачи должен был способствовать торговый дом. Избрание такой организационной формы обусловливалось наличием правового обеспечения. В первой половине XIX в. в России были приняты два главных закона, регулировавших предпринимательскую деятельность и связанных с организацией торговли. Согласно манифесту Александра I от 1 января 1807 г., российским купцам правительство предписывало производить коммерцию в «образе товариществ» полных и на вере, получивших наименование «торговый дом». Акт от 6 декабря 1836 г., известный как Положение о компаниях на акциях, регулировал общий порядок учреждения и правила деятельности акционерных компаний, а также содержал в себе проект устава, который обязано было иметь каждое подобное общество [18, с. 117]. В положении учитывалась и такая особенность России, как активное государственное попечительство: ни одна компания не могла возникнуть без санкции правительства [17, с. 440].
Обсуждение и заключение
Архивные материалы, извлеченные из АВПРИ, также подтверждают, что первоначальная инициатива в учреждении торгового дома исходила от власти при ее активном участии. 27 февраля 1836 г. министр финансов Российской империи Е. Ф. Кан-крин направил официальное письмо руководителю Министерства иностранных дел вице-канцлеру К. В. Нессельроде. В нем, ссылаясь на успешный опыт деятельности англичан в Бендар-Бушире (совр. Бушир город-порт на берегу Персидского залива – Е. Г., А. М. ), он попросил содействия российских дипломатов, дабы «вступить с персидским правительством в сношение для получения его согласия на открытие в Астрабаде нашей торговой фактории… и об оказании вообще покровительств российским подданным, кои в сем деле участвовать будут» [21, с. 223–224].
Место для опорного пункта будущей компании было выбрано неслучайно. Астрабад (Горган), административный центр провинции Голестан, располагался в северо-восточном приграничье Ирана, недалеко от Астрабадского залива, в доступных для каспийских кораблей низовьях. Не освоенный европейскими контрагентами, но при этом многолюдный по меркам XIX столетия и удобный для доставки грузов, город рассматривался как лучшее место развертывания масштабной торговли России.
В течение последующих лет усилиями чиновников, дипломатов и комиссионеров-посредников была осуществлена серьезная подготовительная работа по организации торгового дома: формулировались устав и инструкции, определялся состав учредителей из купеческой среды, рекрутировались «попечители» из чиновников Министерства финансов с назначением «приличного содержания из государственного казначейства», выделялись бюджетные средства на первоначальные действия. Своеобразной разведывательной акцией стала отправка в Астрабад в ноябре 1838 г. пробной партии российских «изделий», реализация которых была поручена опытному торговцу, суперкаргу (доверенное лицо. – Е. Г., А. М. ) тифлисскому гражданину Эриван-дову. Ее неоднозначные результаты были засвидетельствованы в «представлении», адресованном председателю московского отделения Мануфактурного совета при Департаменте мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов ге-нерал-адьютанту Г. А. Строганову [21, с. 225–226].
Отчет Эривандова отражает высокие предпринимательские риски, которыми сопровождалось данное мероприятие. По прибытии в Астрабадский залив на судно с российскими товарами было совершено разбойное нападение «в девяти лодках до 70 человек туркмен», покинувших его лишь после выдачи 50 рублей серебром и 83 чугунных кунганов (кувшинов). Следующим испытанием стал визит «тамошнему
Абас Хану Каджар и главным духовным лицам», впрочем, завершившийся успехом после пожертвования некоторой суммы «на поправление старой мечети». Торговля производилась с борта корабля «во избежание значительных расходов, могущих последовать от перевозки товаров в город, отстоящий от залива на 50 верст». В итоге удалось реализовать лишь часть партии, главным образом из-за изначально назначенных чрезмерно высоких цен и низкого качества. Однако Эривандов заверял своих патронов, что он намерен распродать остатки в Хорасане, Мазандеране и Гиляне, используя личные связи с местными властителями [21, с. 225]. Пожалуй, наиболее важным результатом превентивного коммерческого мероприятия стал составленный Эри-вандовым перечень российских предметов торговли, которые по его мнению «более иметь могут выгодный сбыт в Астрабаде и окрестностях». Интересно, что главное место в списке занимают металлы и металлические изделия, практически отсутствовавшие в европейских товарных поставках [21, с. 227].
На вырученные деньги комиссионер рассчитывал закупить шелк-сырец – ключевой вид персидского экспорта. В последующем донесении в Департамент мануфактур и внутренней торговли указывалось, что местные астрабадские купцы убедили су-перкарга отдать товары в кредит на четырехмесячный срок и затем вернули лишь часть долга по условленной цене «хлопчатою бумагою и краской мареною». От оставшихся кредитных обязательств «персияне» уклонились, а один из них – Кара-Садык – обвинил Эривандова в шпионаже, угрожал доставить его «к начальнику Астрабада Аббас-хану… и при сем случае, выхватив из ножен шашку, намеревался изрубить, однако ж был от сего удержан своими единоверцами» [21, с. 228]. Конфликт был урегулирован властями провинции. В заключение стоявшее на рейде русское торговое судно вновь было атаковано туркменами, а Эривандов едва не был застрелен нападавшими.
Интересно, что на первом листе документа имеется запись: «Не весьма удачно, но не надо терять надежды и повторить опыт». Ниже управляющим департаментом заверено: запись сделана «подлинной его императорского величества рукой» [21, с. 229], что доказывает личную убежденность царя Николая I в необходимости дальнейших действий по продвижению российских товаров в Персии. В официальных правительственных материалах зафиксировано, что 5 марта 1839 г. соответствующим структурам было направлено высочайшее повеление «о составлении частного купеческого товарищества или торгового дома для открытия торговли с Азией через Астра-бад» [21, с. 230].
Неудача первой экспедиции не остановила сторонников идеи организации товарообмена на постоянной основе. В 1841 г. на северо-восток Ирана была направлена новая партия, практически полностью распроданная. Это окончательно убедило высокопоставленных чиновников в том, что «сношения со Средней Азией чрез Астра-бад могут доставить новый сбыт русским товарам, способный принять развитие в размерах вполне удовлетворяющих предположениям правительства, и что в персиянах более и более развивается наклонность к русским товарам, в обмен на кои получаются из Персии произведения, необходимые для отечественной промышленности и по ценам весьма сходным» [21, с. 231].
К началу 1840-х гг. определяется состав главных частных учредителей дома из числа гильдейского купечества. В записке преемника Е. Ф. Канкрина министра финансов Ф. П. Вронченко имперскому Азиатскому комитету (межведомственная структура при императоре. – Е. Г., А. В.) от 10 октября 1844 г. в качестве таковых указываются почетный гражданин г. Александрова Владимирской губернии, купец второй гильдии, ситцевый фабрикант Иван Баранов, московский купец первой гильдии Николай Ремезов и мануфактур-советник из г. Вязники Владимирской же губернии Ефим Елизаров [21, с. 231]. Все они были известными предпринимателями, владельцами крупных текстильных мануфактур. Так, купец Иван Федорович Баранов (1807–1848), владелец одной из крупнейших в Центральной России мануфактур – Троицко-Александровской, прославился тем, что первым из отечественных предпринимателей отказался от использования французского и голландского краппа и заменил его мареной – природным красителем из растения, в изобилии произраставшего на Кавказе, и тем самым значительно снизил себестоимость своих изделий. В подготовленном Императорским историческим обществом 25-томном «Русском биографическом словаре» ему посвящена отдельная статья, в которой главной заслугой И. Ф. Баранова признается то, что «он первый открыл систематические торговые сношения с Хивою, Астраба-дом и другими азиатскими городами и один из первых послал свои товары в Тифлис для заведения там русского торгового дома» [20, с. 483]. Купец второй гильдии, первый в стране фабрикант машинного льнопрядения, городской голова Ефим Григорьевич Елизаров владел в Вязниках полотняной фабрикой. Елизаровы поставляли полотно в военное ведомство и казну, а также в Персию, за торговлю с которой уже сын Ефима Григорьевича, Василий Елизаров, в 1858 г. получил персидский орден Льва и Солнца второй степени [22, с. 42].
Осенью 1844 г. председателю московского отделения Мануфактурного и коммерческого совета, действительному статскому советнику барону А. К. Мейендорфу, был «препровожден» Устав торгового дома – смешанного предприятия, в котором из семи паев по 15 тыс. руб. четыре принадлежало государству, а оставшиеся три – вышеуказанным частным лицам. В п. 1 устава подчеркивалось, что «для сей цели в местах, где окажется удобство, учредятся фактории сего дома, определятся комиссионеры и заведутся складские места» [21, с. 231–232]. Географический охват деятельности торгового дома уже на начальном этапе его существования был значительным: в Москве учреждалась главная контора; в Астрахани на постоянной основе находился посредник-комиссионер для обеспечения движения русских товарных потоков в Персию и персидских в Россию и «для исполнения всех поручений по астраханскому порту»; основные закупки производились на Нижегородской ярмарке; в Баку располагались основные склады и специально нанятый комиссионер для переправки сформированных партий в Астрабад и близлежащие торговые пристани на юго-восточном побережье Каспия. Наконец, непосредственно в Голестан направлялся уполномоченный правлением дома «распорядитель торговыми делами в Персии» с помощниками [21, с. 238].
Опыт первых экспедиций 1838 и 1841 гг. был учтен при определении ассортимента отечественных товаров: металлы и металлические изделия, «мануфактуры» (хлопчатобумажные, льняные ткани и сукна), стеклянная и фарфоровая посуда и другая продукция.
Однако, несмотря на серьезную организационную и материальную подготовку, а также серьезную поддержку со стороны российских дипломатов, первые результаты деятельности «Московского дома по торговле с Азией» в Иране не соответствовали ожиданиям его учредителей и правительственных кураторов. На это имелось несколько серьезных причин. Первой из них было отсутствие необходимой инфраструктуры в Астрабаде и других опорных пунктах: пристаней, складских помещений, контор. Поэтому, как указывается в отчетных документах, «до 1849 года торговые дела компании сосредоточены были только в фактории на Гязинском берегу, и продажа производилась гязинским жителям в кредит» (Гяз – небольшой город-порт рядом с Астрабадом. – Е. Г., А. М. ) [21, с. 266]. Это существенно сокращало возможности россиян и увеличивало издержки. Как указывал составитель одного из отчетов, «попытки наши к расширению торговой оседлости в Персии, при ограниченном капитале, сопряжены были со значительными расходами и большими пожертвованиями» [21, с. 266].
Еще одним препятствием для расширения торговых оборотов дома была сезонность торговли, определяемая сроками навигации и проведения Нижегородской ярмарки. Так, консул С. И. Черняев писал из Астрабада в 1850 г., что «от осени до весны сообщения с Астраханью нет, и для товаров, отсюда вывозимых, время сбыта в Россию наступает только к середине или к концу лета»1. Ему вторил другой дипломат, В. В. Гусев, в своем обзоре о торговле в прикаспийских провинциях Ирана за 1855 г.: «Одновременная и единократная высылка в Персию русских товаров причиняет большую остановку в коммерческих оборотах в том отношении, что закупленные на Нижегородской ярмарке, будучи получены здесь в ноябре месяце они в течение следующих семи месяцев почти совершенно распродаются» [21, с. 272]. Это неизбежно вело к остановке торговой деятельности на продолжительный период. Существовали сложности и с транспортировкой, которые, однако, были частично сняты после того, как за счет средств дома был построен бриг «Святая Александра» вместимостью 140 т, использовавшийся для рыбных промыслов и для перевозки «компанейских товаров из Астрабада в Астрахань и обратно» [21, с. 240].
Наконец, масштабированию деятельности торгового дома в Астрабаде мешала нерешительность иранских купцов – их потенциальных торговых партнеров, обусловленная своеобразной двойственностью их социального и экономического положения. С одной стороны, они пользовались известным почетом и уважением, занятие торговлей поощрялось Кораном. Но в то же время деятельность иранского купца зиждилась на весьма зыбкой почве, главным образом из-за отсутствия гражданского законодательства, которое регулировало бы права личности и защищало его имущественное положение [9, с. 107–108].
Переломным для «Московского дома по торговле с Азией» стал 1849 г., о чем свидетельствуют консульские донесения. Имен- но тогда по инициативе соучредителей из Астрабада в сопредельные прикаспийские провинции Мазандеран (города Сари и Бар-форуш), Гилян (Решт и Энзели), иранский Азербайджан (Ардебиль) и в Тегеран были организованы и направлены руководимые русскими приказчиками рейды с товарными партиями [21, с. 271]. Такая массированная коммерческая разведка завершилась успехом и привела к значительному расширению масштабов торговли. Но даже такие результаты не являлись достаточно убедительными ни для отечественных предпринимателей, ни для правительственных кругов России. В упомянутом выше отчете консула В. В. Гусева за 1855 г., анализирующем состояние торговли «в Астрабадской, Мазандеранской и Шахрудской областях», дипломат с неудовольствием отмечает общую «ограниченность оборотов» «Московского дома по торговле с Азией». В итоге существенный дисбаланс между затраченными усилиями и ресурсами и реальными торговыми показателями привел к по- степенному сворачиванию деятельности «Московского дома по торговле с Азией» в Иране и прекращению его работы к концу 1850-х гг.
Однако такие скромные, на первый взгляд, успехи в долгосрочной перспективе способствовали достижению поставленной правительственными кругами цели обеспечения устойчивых экономических позиций России в Иране. Российский купеческий капитал к концу 1840-х гг. утвердился в провинциях Мазандеран, Астрабад, проник в провинцию Хорасан и некоторые другие регионы [25, с. 271]. В условиях обострившегося англо-российского торгово-экономического соперничества предприниматели вынужденно осваивали новые районы для сбыта отечественных товаров, кооперируясь в рамках торговых компаний и объединяя усилия с государственными структурами. Такая тактика стала прелюдией будущего окончательного раздела Ирана на сферы экономического влияния между Российской империей и Великобританией.