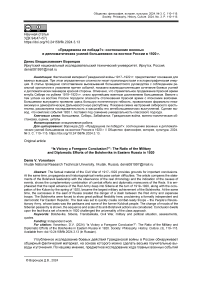«Предрешена ли победа?»: соотношение военных и дипломатических усилий большевиков на востоке России в 1920 г
Автор: Воронцов Д.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
Фактический материал Гражданской войны 1917-1922 гг. предоставляет основания для важных выводов. При этом определенные сложности несет пропагандистская и историографическая инерция. В статье проведено сопоставление высказываний большевистского руководства с соблюдением реальной хронологии и указанием причин событий, показано взаимодополняющее сочетание боевых усилий и дипломатических маневров красной стороны. Отмечено, что стремительное продвижение Красной армии вглубь Сибири на рубеже 1919-1920 гг. стало крупнейшим военным достижением большевиков. Вместе с тем успехи на востоке России породили опасность столкновения Красной армии с японскими войсками. Большевики вынуждено проявили здесь большую политическую гибкость, провозгласив формально независимую и демократическую Дальневосточную республику. Показана смена настроений сибирского крестьянства, рассмотрена последовательность и масштабы его антибольшевистских выступлений. Сделан вывод, что комплекс событий 1920 г. поставил под сомнение универсальность классового подхода.
Большевики, сибирь, забайкалье, гражданская война, военно-политическая обстановка, оценки, цитаты
Короткий адрес: https://sciup.org/149144994
IDR: 149144994 | УДК: 94(47+57) | DOI: 10.24158/fik.2024.3.13
Текст научной статьи «Предрешена ли победа?»: соотношение военных и дипломатических усилий большевиков на востоке России в 1920 г
в январе – мае 1920 г. позволяет аргументированно усомниться в одном из популярных отечественных историографических тезисов – в утверждении о предопределенности конечной победы большевиков, предрешенной главным образом правильными лозунгами, привлекательным «образом будущего» и т.д. Тезис был выдвинут еще первыми революционными руководителями и настойчиво навязывался советской историографией. Так, например, В.И. Ленин 31 июля 1919 г. публично назвал причиной неудач колчаковской армии разочарование сибирского и средневолжского крестьянства в антибольшевистском режиме. Основатель советского государства задавал риторический вопрос: «Вы знаете, что в Самаре крестьянство, среднее крестьянство, было на стороне буржуазии. Кто же теперь оттолкнул его от Колчака?»1 Заметим, что Колчак никогда не контролировал Среднее Поволжье, а до разгрома его вооруженных сил оставалось еще продолжительных 6 месяцев. Полгода, за которые на Восточном фронте было проведено не менее 7 крупных военных операций – Челябинская, Актюбинская, 1-я и 2-й Тобольско-Петропавловская, Омская, Новониколаевская, Красноярская. Ленинская «Речь о продовольственном и военном положении», фрагмент которой мы привели, наглядно демонстрирует возможности и ограничения настойчивой пропаганды. Отметим, что «ревизия» ранее высказанных обобщающих трактовок – продуктивная задача для современных исследователей (Воронцов, 2021: 252).
Бывший до 25 ноября 1919 г. командующим 5-й красной армии М.Н. Тухачевский прочитал 24 декабря 1919 г. в Академии Красного Генерального штаба лекцию о «стратегии национальной и классовой». Он предложил во время Гражданской войны особенно тщательно учитывать различия двух видов центров: тех, где сосредотачивались власти и промышленное производство и тех, где проживало более зажиточное сельское население, «мелкобуржуазно настроенное». Первые центры по отношению к советской власти и Красной армии названы в лекции «жизненными», вторые – «мертвящими». По аналогичной методологии М. Тухачевский настаивал на принципиальных отличиях партизанского движения, основанного на национальных и классовых стремлениях2.
Заметим, что марксистский подход гармонично и убедительно выглядел в пропагандистской риторике, однако он же в военной и экономической практике второго, третьего и четвертого десятилетий XX в. преподнес руководству Советского государства немало масштабных и горьких провалов и разочарований.
Основной массив документов воинских формирований периода Гражданской войны хранится в Российском государственном военном архиве в Москве. Документация объединена в фонды фронтовых, армейских и окружных штабов (фонды 118, 170, 185, 207, 221 и т.д.) и составляет развернутую картину как эволюции военной организации противоборствующих сторон и их мобилизационных усилий, так и напряженной работы с настроениями военнослужащих. Советские историки проделали большую работу по изданию сборников этих документов3. Напротив, ставшие трофеями Красной армии документы антибольшевистских сил рассекречены в 1988 г. и массово изучались исследователями уже в постсоветский период. Существенная часть документации белых частей утрачена.
При работе над статьей мы стремились соблюсти историзм и объективность, а в качестве основных методов избрали сравнительно-исторический и историко-ситуативный. Это позволило рассмотреть деятельность противников в контексте конкретных исторических ситуаций.
Но вернемся к военно-политической обстановке начала 1920 г. Из-за возрастающей мощи Красной армии, превосходстве ее в людях и вооружении, а также из-за некомпетентности белого военного руководства армия адмирала Колчака в ноябре 1919 г. начала отступление вглубь Сибири. Однако внутренние проблемы, произвол чинов Чехословацкого корпуса на Транссибе и мятежи эсеров в городах расстроили планы белых по созданию новой линии обороны, стали катализатором разложения и гибели на территории Томской и Енисейской губерний большей части колчаковских войск. Пройти тяжелый путь по заснеженным просторам Иркутской губернии и выйти в Забайкалье смогли лишь наиболее стойкие остатки некогда многочисленной армии – еще год назад, весной 1919 г., бывшей самым опасным и сильным военным противником войск Советской России.
С августа 1919 г. в Сибири началось внедрение военного коммунизма, территория распространения данной политики расширялась по мере разгрома колчаковских войск. В этих условиях для всех органов власти было характерно стремление к предельной централизации и военизации, предпочтительное использование методов насилия и принуждения. Сначала советская пропаганда, а затем и историография стремились объяснить переход к военному коммунизму как исключительно вынужденную вызовами Гражданской войны меру, связанную с потерей зернопроизводящих территорий. В реальности же данный курс являлся буквальным воплощением экономических воззрений большевиков и позднее отчасти был воспроизведен при свертывании новой экономической политики в конце 1920-х гг.
Военный коммунизм позволил большевикам получить разнообразные материальные ресурсы, а по итогам их перераспределения в пользу лояльных слоев – поддержать и отчасти расширить социальную базу, «закалить в опасном деле» слой дисциплинированных исполнителей чрезвычайного типа. Недаром В.И. Ленин определял обстановку октября 1919 г. как борьбу первой ступени перехода к коммунизму с крестьянскими и капиталистическими попытками отстоять или возродить товарное производство1.
Ведя вооруженную борьбу, большевики наработали достаточно эффективную и гибкую практику того, что современники откровенно именовали «вопросами оккупации». С осени же 1919 г. Красная армия вышла на соединение с сибирскими партизанами. Крайняя идейно-политическая и социальная неоднородность этого движения создавала предпосылки для различных конфликтов и эксцессов на фоне решительного стремления большевиков не допустить в Сибири феномена «махновщины».
Успешное и стремительное продвижение Красной армии вглубь Сибири к весне 1920 г. стало крупнейшим военным достижением большевиков. Председатель Сибревкома и член Революционного военного совета 5-й красной армии И.Н. Смирнов, выступая на митинге в Красноярске 23 января 1920 г. заявил, что при вступлении в Сибирь советское правительство не рассчитывало на такой быстрый успех своих войск, а полагало, что противник будет укрепляться2.
Вместе с тем победа в Сибири таила для большевиков и серьезную опасность. Рост боевой активности красных породил международную напряженность восточнее Байкала. В.И. Ленин 15 декабря 1919 г. напоминал И.Н. Смирнову, что будет преступлением чрезмерно зарываться на восток3. Продвижение 5-й армии неотвратимо грозило конфликтом с Японией. Данная опасность побудила руководство большевиков к поиску «непрямых» путей устранения «японского вопроса», отказавшись от отвлечения военных и других сил Советской России восточнее Иркутска (История Дальнего Востока России …, 2003: 374).
Большевики вынужденно проявили большую гибкость, решив провозгласить на востоке России формально независимое и демократическое «буферное государство» – Дальневосточную республику (ДВР) с сохранением в ней столь клеймимого В.И. Лениным свободного рынка. На ДВР была возложена миссия «изжить» японскую интервенцию и ликвидировать антибольшевистские формирования, не привлекая к этому силы Красной армии. Требовалось быстро создать боеспособные вооруженные силы ДВР – Народно-революционную армию (НРА) для разгрома белых. Личный состав ее включал преимущественно бывших военнослужащих Колчака, перешедших на сторону красных в Иркутске, и восточно-сибирских и западно-забайкальских партизан. Командующим НРА с 18 марта 1920 г. стал Г.Х. Эйхе. Именно этот красный военачальник сменил М.Н. Тухачевского во главе «добившей белых в Сибири» 5-й красной армии и возглавлял ее до 21 января 1920 г. Соответственно, высшее командование НРА, несмотря на возражения «союзных» меньшевиков и эсеров, было составлено исключительно из большевиков.
Воинские части Дальневосточной республики формировались по штатам Красной армии. При этом, несмотря на поступавшую материальную помощь от 5-й армии, формирование НРА шло очень медленно. Для финансирования НРА Советская Россия была вынуждена присылать золотые рубли, поскольку никакие другие денежные знаки доверия не вызывали.
Нескрываемые намерения властей ДВР силой разгромить белый режим атамана Г.М. Семенова заранее делали бессмысленными попытки последнего к политическому компромиссу. Однако учитывая вынужденное стремление Советской России не допустить военного столкновения с армией Страны восходящего солнца, власти ДВР прилагали все возможные усилия, чтобы не дать японцам повод к вмешательству. Поэтому одновременно с напряженным наращиванием боевого потенциала НРА была запущена мощнейшая пропагандистская кампания за «мирное освобождение» Забайкалья и Дальнего Востока от отечественных «реакционных сил» и интервентов. На этом фоне окружение Г.М. Семенова и он сам также проявили чудеса дипломатической изворотливости в поисках необычных политических решений и немалый литературный талант в пропагандистской полемике с идеологическими оппонентами из левого лагеря (Василевский, 2000: 112; Ципкин, 2022: 333–334). Недаром читинский историк В.И. Василевский в моно- графии «Забайкальская белая государственность» аргументированно заключил, что удивительно не то, что белые потерпели поражение, а то, что режим Г.М. Семенова смог продержаться так долго после образования Дальневосточной республики (Василевский, 2000: 112).
Первое наступление НРА на Читу состоялось 10–13 апреля 1920 г. Красное командование пыталось, но не смогло обеспечить численный перевес над белыми частями, оборонявшими столицу Восточного Забайкалья. Не оправдался расчет и на быстрый успех с повтором стремительного продвижения на восток зимой 1919–1920 гг., хотя под Читой противниками «народноармей-цев» преимущественно являлись именно отступившие из Западной Сибири белогвардейцы. Фактором морально-психологического дискомфорта для красного командования и рядовых бойцов являлось предписание избегать столкновения с японцами.
Особо отметим, что одновременно с отражением атак красных на Читу белые были вынуждены вести крупномасштабные бои с восточно-забайкальскими партизанами. С 7 по 27 апреля 1920 г. 3-й стрелковый корпус белых, ряд казачьих частей и японский пехотный полк продвигались с боями от Казаковского промысла в направлении станицы Жидка и от города Сретенска на село Копунь (Новиков, 2008: 221).
Исход первого наступления на Читу учитывался обеими противоборствующими сторонами. Не сумев уничтожить партизан, белые не могли рассчитывать на усиление фронта против НРА и поэтому предприняли следующую превентивную меру – была сокращена протяженность линии противостояния юго-западнее Читы. Для этого белые покинули позиции в верховьях реки Ингоды, отведя войска из района Татаурово – Черемхово.
Более масштабные организационные мероприятия предприняло командование НРА. Войска на фронте были усилены свежими частями. В структуре сил появилась дополнительная мощная южная военная группа для действий в долине реки Ингоды, частично оставленной белыми. Главным же мероприятием, безусловно, следует считать смену принципа комплектования НРА от набора добровольцев к обязательному призыву. По представлению Г.Х. Эйхе и Военного совета НРА 18 апреля 1920 г. была объявлена мобилизация 14 возрастов населения Прибайкалья, а 28 апреля – еще четырех. Однако для реального пополнения боевых частей личным составом требовалось не менее 1–1,5 месяцев, поскольку органы призыва еще сами находились в процессе формирования.
Состояние красных войск на западных подступах к Чите характеризует донесение Военного совета НРА председателю Сибревкома от 23 апреля 1920 г.: «Предпринимаем на 26 апреля общее наступление на Читу. Силы противника – те же, что и раньше: 18 000 пехоты, 10 000 кавалерии. Японцев в ближайшем к Чите районе тысяч 7. Народно-революционная армия еще не имеет удачного боевого опыта, бывшие партизаны не приобрели навыка держать определенный фронт, присоединяется боязнь японцев как стойких крупных регулярных войск. Семеновцы знают это и используют, одеваясь в японскую форму. Наше вооружение, артиллерия много слабее. С продовольствием, снарядами, транспортом очень плохо. Уверенности, что возьмем Читу, мало. Если не возьмем сразу, то, не имея резервов, должны будем отходить. Возможен обход противника крупными силами на железную дорогу, в тыл нашим частям. Угроза разгрома наших сил вполне реальна. Предлагаю решить вопрос и завтра же перебросить сюда одну бригаду 30-й дивизии. Это будет единственная сила, которая будет держать фронт после разгрома наших частей, чья общая численность штыков немногим более 10 тысяч. Не скрываем от себя, что это предложение грозит затруднить возможность формального обоснования независимости “буфера” …»1.
Содержание процитированного донесения особо примечательно двумя моментами. Ссылкой на переодевание белых в чужую форму, что косвенно признает неучастие японской армии в боях против сил НРА, и просьбой «подпереть» войска «независимой» ДВР авангардным соединением 5-й красной армии.
Два (10–13 апреля 1920 г., 25 апреля – 5 мая 1920 г.) весенних наступления НРА на Читу показали, что, несмотря на военно-техническую помощь Советской России, части ДВР не смогут разгромить режим Г.М. Семенова, пока его поддерживают войска Японии (Новиков, 2008: 217– 224). Поэтому власти ДВР взяли до октября 1920 г. паузу, ведя переговоры о выводе сил Страны восходящего солнца из Забайкалья и одновременно активно занимаясь организационным и военно-техническим усилением партизан. В конце июля состоялся 3-й фронтовой съезд восточнозабайкальских партизан, который постановил преобразовать отряды в части НРА. По вьючной тропе от Телембы через с. Бургень, поселки Юр Тунгус, Шаргольджин, Акима на станцию Зилово перебрасывался командный состав и боеприпасы. Такое смещение усилий позволяло нарастить численность бойцов, усилить военное и дипломатическое давление на японцев, подталкивая их к выводу войск. В итоге в период с 25 июля по 15 октября 1920 г. японские войска покинули За- байкалье. Длительная (с июня по сентябрь) подготовка к уничтожению «читинской пробки» завершилась полным успехом НРА в ходе 3-й Читинской операции 1–31 октября 1920 г. Белые с боями отходили на юго-восток, и к 21 ноября 1920 г. в полном составе ушли в Китай.
В.И. Ленин в декабре 1920 г., поясняя причины создания ДВР, ссылался на «неимоверные бедствия» сибирских крестьян от японского империализма и резюмировал: «Вести войну с Японией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить …, но, если можно, обойтись без нее»1.
На фоне военного противоборства в Забайкалье у большевиков возникли проблемы в Сибири, в ближайшем тылу. Настроение местного крестьянства кардинально изменилось после введения с 01 июня 1920 г. принудительной продовольственной разверстки. Очень быстро недовольство переросло в открытое возмущение властью, породив летом – осенью 1920 г. многочисленные восстания: в Новониколаевском и Томском уездах Томской губернии, в Степном Алтае, в Енисейской и Иркутской губерниях. Преимущественно разрозненные и стихийные выступления были большевиками быстро и относительно легко подавлены, создав иллюзию возможности еще более углубить политику военного коммунизма. Властями были намечены обширные трудовые мобилизации на лесозаготовки, началось формирование Сибирской трудовой армии, запланировано введение разверсток на семенное зерно и размеры засеваемой площади. Последние меры и стали толчком к более масштабным как по числу участников, так и по территориальному размаху крестьянским восстаниям самого начала 1921 г. (до 5 000 чел. – вокруг с. Сорокино Барнаульского уезда Алтайской губернии, до 100 000 чел. – в Западной Сибири) (Бакшеев, 2020: 70– 71). Большевики сумели разгромить крестьянские образования силовым путем, однако подавление многочисленных выступлений пришлось сопроводить вынужденным и идеологически досадным отказом от настойчивых попыток получить полный контроль над продукцией сельского хозяйства и временно запустить новую экономическую политику.
* * *
В течение всего 1920 г. на фоне продолжающегося военного противоборства и красные, и белые в стремлении достичь желаемого ими «образа будущего» широко обращались к политике и дипломатии, демонстрировали количественно и качественно возросший уровень агитации и пропаганды. Большевики проявили гораздо большую, чем в начальные 1917–1918 гг., внутриполитическую и международную гибкость, задействовав на рубеже 1919–1920 гг. эсеров для подрыва колчаковского режима и его вооруженных сил, а затем – маскировочное прикрытие «буферной государственности» ДВР для усиления противоречий среди стран – участников интервенции на востоке России, в особенности между США и Японией.
Примененная большевиками комбинация силовых и дипломатических подходов позволила им установить полный контроль над Восточным Забайкальем. В то же время продемонстрированные в течение 1920 г. ресурсная неготовность большевиков «бросить вызов» Японии и тяжелое поражение Красной армии под Варшавой от польских войск наглядно поставили под сомнение универсальность и всемогущество классового подхода. Впервые проявилась утопичность надежд на мировую революцию – тех надежд, на которых во многом строился «образ будущего» предъявляемый большевиками населению России; надежд, служивших обоснованием общего менторского, прогрессорского тона советской пропаганды.
Список литературы «Предрешена ли победа?»: соотношение военных и дипломатических усилий большевиков на востоке России в 1920 г
- Бакшеев А.И. НЭП в Сибири. Атмосфера и логика войны. Красноярск, 2020. 145 с. EDN: YCGXCC
- Василевский В.И. Забайкальская белая государственность. Краткие очерки истории. Чита, 2000. 180 с.
- Воронцов Д.В. Эволюция советской историографии Гражданской войны (на материалах Востока России) // Известия Лаборатории древних технологий. 2021. Т. 17, № 3 (40). С. 245-254. DOI: 10.21285/2415-8739-2021-3-245-254 EDN: XJENGY
- История Дальнего Востока России: в 3 т. / ответ. ред. Б.И. Мухачев. Владивосток, 2003. Т. 3. Кн. 1. Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. 632 с.
- Новиков П.А. Гражданская война в Восточной Сибири. М., 2008. 415 с.
- Ципкин Ю.Н. Белое движение на Дальнем Востоке России (1918-1922 гг.). М., 2022. 544 с.