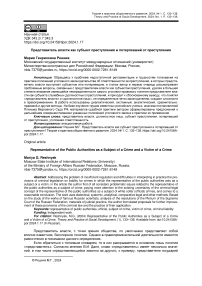Представитель власти как субъект преступления и потерпевший от преступления
Автор: Решняк М.Г.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
Обращаясь к проблеме недостаточной регламентации и трудностям толкования на практике положений уголовного законодательства об ответственности за преступления, в которых представитель власти выступает субъектом или потерпевшим, в статье автор в первую очередь рассматривает проблемные вопросы, связанные с представителем власти как субъектом преступления, уделяя в большей степени внимание имеющейся неопределенности самого уголовно-правового понятия представителя власти как субъекта служебных (должностных) преступлений, и приходит к обоснованному выводу, что понятия «представитель власти» и «должностное лицо», не определенные четко законодателем, создают сложности в правоприменении. В работе использованы диалектический, системный, аналитический, сравнительно-правовой и другие методы. На базе изучения трудов известных российских ученых, анализа постановлений Пленума Верховного Суда РФ, материалов судебной практики автором сформулированы предложения о дальнейшем совершенствовании указанных положений уголовного закона и практики их применения.
Представитель власти, должностное лицо, субъект преступления, потерпевший от преступления, уголовная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/149144201
IDR: 149144201 | УДК: 343.2/.7:343.3 | DOI: 10.24158/tipor.2024.1.17
Текст научной статьи Представитель власти как субъект преступления и потерпевший от преступления
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия, ,
of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation, Moscow, Russia, ,
Представитель власти, с точки зрения общества, по умолчанию представляет собой вполне известное, бесспорное понятие. Однако в правоприменительной деятельности имеются разночтения в понимании данного определения.
Если обратиться к толковым словарям, то в них раскрывается в основном лишь понятие «представитель». Согласно мнению В.И. Даля, слово «представитель» имеет несколько значений, в том числе «представляющийся законно за другого, к примеру, представители государей
или дворов государств, выборные от имени сословий»1; С.И. Ожегов определяет представителя как лицо, которое выражает чьи-либо интересы, взгляды2. В современных юридических словарях значение этого понятия практически идентично: должностное лицо властного органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости3.
В рамках уголовного права представитель власти может выступать в двух аспектах: во-первых, в качестве субъекта должностных (служебных) преступлений, в том числе имеющих коррупционную направленность; во-вторых, в качестве потерпевшего от преступлений, посягающих на жизнь, здоровье, честь и достоинство соответствующего лица. В данной статье мы рассмотрим некоторые аспекты законодательной регламентации ответственности представителя власти как субъекта преступления.
Отметим, что в уголовном праве представителей власти прежде всего относят к категории специального субъекта определенных преступлений (Бугаевская, 2015: 90–91; Мурин, 2016: 113). При этом непосредственно в статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) понятие «представитель власти» для обозначения специального субъекта преступлений, как правило, не используется, но вместе с тем оно включается в объем более широкого понятия «должностное лицо» (Бриллиантов, Яни, 2010) и учитывается при характеристике отдельных видов последнего, например должностных лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование, являющихся субъектами преступлений, предусмотренных нормами гл. 31 УК РФ.
Кроме того, должностные лица и, как следствие, представители власти традиционно входят в объем еще более широкого понятия – «лицо, использующее свое служебное положение»4, обозначающего специального субъекта на уровне основного или квалифицированного (особо квалифицированного) составов ряда преступлений, например нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ), торговля людьми и использование их рабского труда (п. «в» ч. 2 ст. 127.1, п. «в» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ), мошенничество, присвоение и растрата (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), бандитизм (ч. 3 ст. 209 УК РФ), незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Такие преступления обобщенно именуются служебными, что отражает их социально-правовую сущность (Аснис, 2021: 4–5; Краснова, 2011: 37).
В связи с тем что совершение уголовно наказуемых деяний лицами, использующими для этого должностной или иной служебный статус, стало типичным для современной преступности, причем не только ее коррупционной части, можно согласиться с мнением А.П. Чиркова о том, что имеется насущная необходимость в правильном уяснении признаков такого специального субъекта преступления, каковым является должностное лицо (Чирков, 2015: 61), в связи с чем возрастает потребность в четкой регламентации понятия соответствующего специального субъекта, в том числе относящегося к нему представителя власти, которая бы отвечала требованиям правовой определенности и системности положений уголовного закона. Вместе с тем действующее правовое регулирование в данной области не свободно от недостатков, препятствующих формированию единообразной практики применения уголовно-правовых норм о служебных преступлениях (Решняк, 2022: 95).
Анализ уголовного законодательства показывает, что в уголовном законе понятие лица, использующего служебное положение для совершения преступления, не раскрывается. Лишь в отдельных постановлениях Пленума Верховного Суда РФ оно толкуется относительно конкретных видов преступлений с учетом особенностей их субъекта и объективной стороны5. Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что по уголовным делам о таких преступлениях необходимо установить не только наличие у субъекта определенного служебного статуса, но еще и использование им такового в процессе совершения соответствующих уголовно наказуемых деяний. Для этого в первую очередь требуется понимание содержания служебного положения лица, выступающего субъектом преступления. Относительно представителя власти как субъекта преступления такое понимание основывается на взаимосвязанных определениях должностного лица и представителя власти, закрепленных в уголовном законе. Вместе с тем при системном толковании данных категорий выявляются особенности, на которые мы обратим внимание.
Так, определение представителя власти закреплено в примечании к ст. 318 УК РФ об ответственности за применение насилия в отношении такого лица: представителем власти в этой и других уголовно-правовых нормах признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а равно другое должностное лицо, которое в установленном законом порядке наделено распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. В отношении подобной дефиниции неоднократно высказывались критические замечания (Бриллиантов, Яни, 2010: 19), связанные в числе прочего с тем фактом, что не каждое должностное лицо правоохранительного органа можно признать представителем власти, поскольку в правоохранительных органах, наряду с непосредственно выполняющими стоящие перед соответствующими органами задачи подразделениями, функционируют вспомогательные службы, сотрудники которых являются должностными лицами, но отнести их к представителям власти совершенно невозможно (например, руководитель кадрового подразделения или иного подобного подразделения, не выполняющего непосредственные задачи конкретного правоохранительного органа).
Как видим, в основе содержания понятия «представитель власти» лежит понятие должностного лица, раскрываемое в п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, где, в частности, указываются три альтернативных вида (группы) функций, присущих данному лицу, включая функции представителя власти. То есть представитель власти здесь указывается опосредованно – через присущие ему функции. Кроме того, в п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ подчеркивается, что приводимое определение распространяется исключительно на нормы гл. 30 УК РФ, где расположена эта статья. Следовательно, формально данное определение должностного лица не относится к статьям, содержащимся в других главах Особенной части УК РФ, в том числе к ст. 318 УК РФ, включенной в гл. 32 УК РФ о преступлениях против порядка управления. На наш взгляд, это является явным недостатком в законодательной регламентации ответственности за преступления, в которых представители власти и иные должностные лица выступают субъектами либо потерпевшими. В связи с этим совершенно очевидна правота тех ученых, которые считают, что «установление точного содержания понятия должностного лица – один из наиболее важных вопросов применения немалого числа норм Особенной части УК, и прежде всего – содержащихся в гл. 30 Кодекса» (Бриллиантов, Яни, 2010: 18).
Отметим также, что Пленум Верховного Суда РФ при толковании примечания к ст. 318 УК РФ раскрывает понятие представителя власти с учетом специфики объекта преступлений, предусмотренных этой и другими статьями гл. 32 УК РФ, предполагающей, что потерпевшими в данных нормах следует признавать таких должностных лиц, которые выполняют функции, присущие исполнительной власти1. Эта позиция представляется нам обоснованной, вместе с тем она выявляет проблему, заключающуюся в недостаточно полной уголовно-правовой охране законных интересов должностных лиц, представляющих законодательную и судебную власть, а равно органы предварительного расследования или принудительного исполнения судебных решений.
Например, отдельные должностные лица, в том числе депутаты законодательных органов власти, относятся к такой специфической категории, как государственные или общественные деятели, посягательство на жизнь которых рассматривается в качестве преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, предусмотренного ст. 277 гл. 29 УК РФ. Вместе с тем в этой же главе отсутствуют статьи об ответственности за применение насилия или угрозу его применения в отношении данных лиц, а равно за публичное унижение их чести и достоинства. Полагаем, что в рамках действующего уголовного законодательства восполнение данного пробела на практике допустимо только с помощью норм раздела VII УК РФ о преступлениях против личности , тогда как обращение к ст. 318 и 319 УК РФ, предлагаемое отдельными учеными (Бельский, Бочарникова, 2017: 18–19), в этом случае будет представлять собой применение уголовного закона по аналогии.
Необходимо учитывать такой специфический признак представителя власти, как наличие у него распорядительных полномочий в отношении лиц, которые не находятся в его непосредственном подчинении, что депутатам несвойственно. Участие данных лиц в подготовке и принятии различных нормативных правовых актов, на наш взгляд, нельзя приравнивать к реализации указанных распорядительных полномочий, поскольку сама по себе правотворческая деятельность не связана с непосредственным управленческим воздействием на конкретных людей и их поведение. Поэтому посягательство на этих лиц не нарушает порядок управления, являющийся видовым объектом преступлений, предусмотренных статьями гл. 32 УК РФ. Вместе с тем посягательство на таких должностных лиц, равно как на иных государственных или общественных деятелей, совершенное в связи с их деятельностью, нарушает общественные отношения, обеспечивающее основы конституционного строя и безопасность государства, охраняемые нормами гл. 29 УК РФ. В связи с этим для обеспечения необходимых полноты и системности уголовно-правовой охраны обозначенных общественных отношений и устранения указанного пробела полагаем целесообразным дополнить гл. 29 УК РФ новыми статьями об ответственности за применение насилия и публичное унижение чести и достоинства, совершенные в отношении государственного или общественного деятеля. Не менее важным является и закрепление в уголовном законе определения, раскрывающего содержание и объем понятия государственного или общественного деятеля. Кроме того, для обеспечения полной и системной уголовно-правовой охраны рассматриваемых общественных отношений предлагаем закрепить в отдельной статье в гл. 29, 31 и 32 УК РФ состав публичного унижения чести и достоинства соответствующих представителей власти, включая государственных или общественных деятелей, в котором будут совмещены признаки оскорбления и клеветы. В настоящее время уголовный закон не позволяет обеспечить такую охрану, в том числе на уровне ст. 319 УК РФ, предусматривающей ответственность исключительно за публичное оскорбление представителя власти.
Обращаясь к значению понятия представителя власти как специального субъекта преступления, следует отметить, что непосредственно такой субъект назван только в одной норме Особенной части УК РФ – ч. 2 ст. 315 об ответственности за злостное неисполнение данным лицом вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо воспрепятствование их исполнению. Ранее в работе мы обращали внимание на тот факт, что в других статьях Особенной части УК РФ об ответственности за служебные преступления представитель власти как субъект последних прямо не называется, но включается в объем более широких понятий – должностного лица или лица, использующего свое служебное положение. Применительно к таким преступлениям Пленум Верховного Суда РФ трактует понятие представителя власти шире, нежели по поводу потерпевшего от преступлений, предусмотренных ст. 318, 319 УК РФ, поскольку включает в него лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов не только исполнительной власти, но и законодательной или судебной1. В данном случае такая позиция является обоснованной, поскольку она не ограничивается рамками видового объекта преступлений, ответственность за которые предусмотрена нормами гл. 32 УК РФ. Вместе с тем во избежание разночтений в толковании понятия представителя власти полагаем целесообразным определить в примечаниях к ст. 285 УК РФ все функции, присущие должностному лицу, в том числе функцию представителя власти, распространив эти определения на все статьи Особенной части УК РФ, за исключением гл. 32 УК РФ, где, напротив, следует ограничить сферу применения примечания к ст. 318 УК РФ только нормами данной главы.
Необходимо отметить, что объем понятия «представитель власти» постепенно расширяется, в том числе за счет включения в него лиц, наделенных соответствующими распорядительными полномочиями в рамках занимаемой должности в государственных казенных учреждениях. Считаем, что на эту особенность следует обратить внимание в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, затрагивающих понятие представителя власти как субъекта служебных (должностных) преступлений , тем более что для этого имеются предпосылки, уже сложившиеся на практике.
Например, Ш. была осуждена по ч. 1 ст. 318 УК РФ за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, каковым была признана старший инспектор (контролер) государственного казенного учреждения г. Москвы «Организатор перевозок» Р., исполнявшая служебные обязанности по контролю за соблюдением правил проезда пассажиров, провоза багажа и ношения средств индивидуальной защиты в городском пассажирском транспорте. Ш., не желая быть привлеченным к административной ответственности за нарушение, выявленное контролером, и осознавая, что Р. является представителем власти, находящимся при исполнении должностных обязанностей, умышленно ударила ее рукой2.
Этот и подобные ему примеры демонстрируют, что практика пошла по пути буквального толкования примечания к ст. 318 УК РФ, позволяющего относить к представителям власти различных должностных лиц, наделенных соответствующими распорядительными полномочиями, не ограничивая их перечень исключительно сотрудниками (работниками) правоохранительных, контролирующих или иных органов власти.
Таким образом, считаем, что положения уголовного законодательства, касающиеся понятия представителя власти, обозначающего субъекта служебных (должностных) преступлений, а также ответственности за совершенные им преступления, нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании, направленном на придание данным положениям необходимой определенности и системности, а также на обеспечение полной уголовно-правовой охраны соответствующих общественных отношений.
Список литературы Представитель власти как субъект преступления и потерпевший от преступления
- Аснис А.Я. Новые служебные преступления. Предпосылки криминализации и квалификации: монография. М., 2021. 128 с.
- Бельский А.И., Бочарникова Л.Н. Уголовно-правовая характеристика оскорбления представителя власти // Российский следователь. 2017. № 7. С. 18-21.
- Бриллиантов А.В., Яни П.С. Должностное лицо: представитель власти // Законность. 2010. № 5 (907). С. 18-22.
- Бугаевская Н.В. Выполнение публичных функций как признак субъекта коррупционных преступлений // Человек: преступление и наказание. 2015. № 3 (90). С. 90-94.
- Краснова К.А. Значение криминализации способа совершения бандитизма - "с использованием своего служебного положения" // Социально-экономические проблемы современной России: сб. научных трудов / науч. ред. В.В. Галкин. Воронеж, 2011. Вып. 1. С. 36-39.
- Мурин С.В. Представитель власти в современном уголовном праве России // Вестник Удмуртского университета. Сер.: Экономика и право. 2016. Т. 26, № 3. С. 113-116.
- Решняк М.Г. Преступления, совершаемые с использованием служебного положения: актуальные проблемы установления и реализации уголовной ответственности // Современное право. 2022. № 12. С. 94-100. DOI: 10.25799/NI.2022.29.56.018
- Чирков А.П. Должностное лицо как представитель власти // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2015. № 9. С. 61-64.