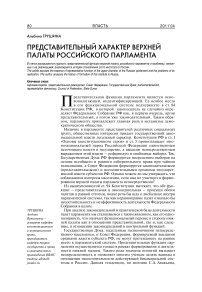Представительный характер верхней палаты российского парламента
Автор: Трушина Альбина Витальевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 4, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются сущность представительной функции верхней палаты российского парламента и проблемы, связанная с ее реализацией; анализируется история становления этого института в России.
Парламентаризм, представительная демократия, совет федерации, государственная дума
Короткий адрес: https://sciup.org/170165809
IDR: 170165809
Текст научной статьи Представительный характер верхней палаты российского парламента
П редставительная функция парламента является основополагающей, индентифицирующей. Ее особое место в его функциональной системе подчеркнуто в ст. 94 Конституции РФ, в которой законодатель не случайно определяет Федеральное Собрание РФ как, в первую очередь, орган представительный, а потом уже законодательный. Таким образом, парламенту принадлежит главная роль в механизме демократического общества.
Наличие в парламенте представителей различных социальных групп, общественных интересов придает государственной законодательной власти легальный характер. Конституция РФ в гл. I «Основы конституционного строя» в ст. 3 провозглашает многонациональный народ Российской Федерации единственным источником власти в государстве, а высшим непосредственным выражением этой власти – референдум и свободные выборы. Так, Государственная Дума РФ формируется посредством выборов на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании, а Совет Федерации формируется законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ. Однако можем ли мы утверждать, что соблюдаются интересы населения, если оно не участвует в формировании верхней палаты парламента непосредственно?
Из вышеупомянутой ст. 94 Конституции вытекает, что обе функции – представительная и законодательная – присущи обеим палатам в равной степени, иначе речь бы шла о дисбалансе внутри парламентской системы, так как неравноправие палат означало бы несостоятельность и неэффективность деятельности Федерального Собрания в целом.
ТРУШИНА
При анализе законодательной и практической базы деятельности палат парламента мы сталкиваемся с таким явлением, как его однополярность, что означает функциональный перевес в сторону нижней палаты как в отношении представительной, так и, как следствие, в отношении законодательной и контрольной функций.
Государственная Дума, наделенная полномочиями непосредственно населением, и Совет Федерации, формируемый высшими органами власти субъекта РФ, не могут претендовать на равное место в парламентской системе. Представительная функция парламента осуществляется только в рамках формирования и деятельности нижней палаты. Такого рода подмена понятий вызывает неопределенность и позволяет многим ученым делать выводы в отношении несостоятельности действующей бикамеральной системы в России. Данная тенденция, по мнению С.А. Авакьяна, наметилась еще в начале 90-х гг.1 и связана с отказом от прямых выборов членов Совета Федерации как в соответствии с федеральным законом 1995 г., так и с действующим федеральным законом от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ.
Вследствие неоднократных изменений порядка формирования Совета Федерации, законодателю так и не удалось минимизировать организационно-правовую разобщенность палат Федерального Собрания РФ, поэтому отсутствие у «представителей регионов» реальных законодательных и контрольных полномочий, возможности равного партнерства с Государственной Думой, выступающей фактически в качестве парламента, является закономерным результатом.
С.А. Авакьян предлагает три возможных выхода из сложившейся ситуации2:
-
1) изменить концепцию федерального представительного учреждения и признать, что одна палата может состоять из делегированных представителей субъектов РФ;
-
2) признать истинно представительным органом народа России Государственную Думу (она и есть парламент), а Совет Федерации – органом представительства субъектов РФ, обладающим правом участия в федеральном законодательном процессе;
-
3) ввести прямые выборы членов Совета Федерации населением субъектов РФ.
Предпочтительным, на наш взгляд, является третий вариант. Однако не все ученые и политики придерживаются мнения о необходимости такого рода радикальных изменений в отношении порядка формирования верхней палаты парламента.
Для того чтобы сделать верные выводы в отношении эффективности или неэффективности принятого на сегодняшний день порядка формирования Совета Федерации, необходимо рассмотреть данный институт с момента его зарождения в Российской Федерации.
История становления верхней палаты началась с Положения о выборах депутатов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 г., утвержденного Указом Президента РФ от 11 октября 1993 г. № 1626, согласно которому палата должна была избираться непосредственно населением регионов на основе мажоритарной системы по двухмандатным избирательным округам. В Положении предпочтение было отдано американской модели формирования верхней палаты – избранию двух представителей от каждого региона3. Между тем, при обсуждении данного вопроса мнения субъектов РФ разделились: ряд регионов высказались в пользу равного представительства, но предлагалось избирать не двух, а трех представителей, а другие субъекты предлагали избирать двух представителей от каждой республики, края, области, автономной области и одного – от каждого автономного округа. При этом каждый избиратель получал право подачи голоса одновременно за двух кандидатов4.
В связи с принятием Конституции РФ вопрос о том, каким образом определять этих представителей, надлежало урегулировать специальным законом. В 1995 г., в последние месяцы работы ГД РФ первого созыва, вокруг этого закона развернулась острейшая политическая борьба. Многочисленные проекты с теми или иными вариациями предлагали три основных способа формирования верхней палаты:
-
– избрание «сенаторов» в субъектах Федерации в ходе всеобщих выборов из числа кандидатов, выдвинутых исполнительными и законодательными органами власти;
– делегирование членов Совета Федерации органами государственной власти субъектов;
– вхождение в Совет Федерации первых лиц регионов по должности.
При голосовании в первом чтении большинство голосов депутатов и одобрение Совета Федерации получил законопроект, отражающий первую из перечисленных позиций, но в результате наложения президентского вето он не был принят5.
В то же время отсутствие закона в преддверии новых выборов в Совет Федерации в декабре 1995 г. могло привести либо к несостоятельности парламента, т.к. без верхней палаты он бы не смог исполнять свои функции, либо к урегулированию данного вопроса указом президента, что повлекло бы резкое снижение его легитимности. Поэтому депутаты Государственной Думы пошли навстречу президенту и, слегка видоизменив законопроект, приняли 5 декабря 1995 г. так называемый проект Чилингарова, по которому в основе формирования Совета Федерации лежал должностной принцип замещения мандатов его членов.
Формально этот способ отвечал конституционному установлению, и многие отметили, что Совет Федерации в составе региональных руководителей станет наиболее эффективным и дееспособным органом власти за счет информированности о потребностях своих территорий, умения сочетать федеральные и региональные интересы, должностного положения. Результаты стали противоположными, так как, во-первых, занятость глав регионов в субъектах РФ не позволяла им уделять достаточное внимание работе в парламенте, а во-вторых, вхождение глав исполнительных органов власти в Совет Федерации рассматривалось как нарушение конституционного принципа разделения властей.
Кроме того, должностной принцип критиковался еще и потому, что характер представительства принято связывать с процедурой формирования палаты. Говорится, что выборность всего состава верхней палаты или ее большинства является общим правилом. Невыборный способ, который принят в Российской Федерации и других странах, считается исключением1.
С вступлением в силу нового Федерального закона от 5 августа 2000 г. «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» № 113-ФЗ, верхняя палата стала формироваться следующим образом: по одному представителю от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ и по одному представителю от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, назначенному высшим должностным лицом субъекта РФ (руко- водителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) (ч. 1 ст. 1 ФЗ № 113).
Однако, как верно отметил Е.И. Колюшин, отмена выборов глав регионов Федеральным законом от 11 декабря 2004 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”» при сохранении за ними права назначения членов Совета Федерации практически означает возврат к соединению законодательной и исполнительной власти2. Таким образом, в результате неоднократных изменений порядка формирования верхней палаты проблема поиска оптимального варианта, соответствующего парламентской концепции и основным положениям Конституции РФ, не была решена.
Следует отметить, что Конституционный суд РФ в своем постановлении от 12 апреля 1995 г. подчеркивал, что в своей организации и деятельности Совет Федерации и Государственная Дума «призваны отразить разные стороны народного представительства в Российской Федерации – прямое представительство населения и представительство субъектов Российской Федерации», но решить эту задачу полностью при формировании Совета Федерации не удается, т.к. в нем нет реального представительства населения субъекта, а есть представительство законодательных и исполнительных органов субъектов РФ.
Таким образом, при анализе апробированных способов формирования верхней палаты парламента, на наш взгляд, соответствующими демократическим началам государства являются именно прямые выборы. Поэтому в силу вышеназванных выявленных противоречий, прежде всего внутри Конституции РФ, считаем необходимым пересмотреть процедуру формирования Совета Федерации и внести соответствующие изменения в гл. 5 Основного закона Российской Федерации.