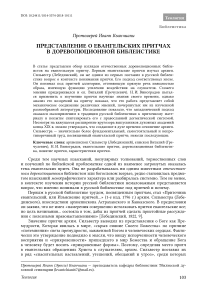Представление о евангельских притчах в дореволюционной библеистике
Автор: Кванчиани Иоанн Эрекле
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 5 (82), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен обзор взглядов отечественных дореволюционных библеистов на евангельскую притчу. Первым евангельские притчи изучал архиеп. Сильвестр (Лебединский), он же одним из первых поставил в русской библеистике вопрос о контексте понимания притчи. Его подход соответствовал эпохе. Он понимал под притчей аллегорию, оттеняющую прямую речь изящностью образа, имеющую функцию усиления воздействия на слушателя. Схожего мнения придерживался и еп. Виталий (Гречулевич). Н. И. Виноградов пытался применить к изучению притчи научные знания своего времени, однако анализ его воззрений на притчу показал, что его работа представляет собой механическое соединение различных мнений, почерпнутых им из изученной разнообразной литературы. Исследование показало, что западнический подход оказался малоприменим в традиции русской библеистики к приточному материалу в попытке синтезировать его с православной догматической системой. Несмотря на кажущееся расширение кругозора выпускников духовных академий конца ХIХ в. можно утверждать, что созданное в духе времени сочинение архиеп. Сильвестра - значительно более фундаментальный, самостоятельный и непротиворечивый труд, посвященный евангельской притче, нежели последующие.
Архиепископ сильвестр (лебединский), епископ виталий (гречулевич), н. и. виноградов, евангельские притчи, дореволюционная библеистика, понятие притчи, характеристики притчи
Короткий адрес: https://sciup.org/140246619
IDR: 140246619 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10111
Текст научной статьи Представление о евангельских притчах в дореволюционной библеистике
Среди тем научных изысканий, популярных толкований, торжественных слов и поучений по библейской проблематике одной из наименее затронутых оказалась тема евангельских притч. Она не разрабатывалась ни одним известным отечественным дореволюционным библеистом или богословом всерьез, редко становилась предметом изысканий моно графического характера или разбиралась системно. Тем не менее, в контексте изучения истории русской библеистики немаловажным представляется вопрос, что именно понимали в русской библеистике под притчей и почему.
Первым в русской библеистике трудом, посвященным притчам, стал «Приточник евангельский, или Изъяснение притчей…» (1-е изд. 1796 г.) архим. Сильвестра (Лебединского), впоследствии архиепископа Астраханского и Кавказского. В предисловии он заявил, что не имел «намерения совершенно истолковать притчи евангельские все; но цель начинания… состояла в том, дабы из притчей сделать пристойные рассуждения с полезными нравонаставлениями» [Лебединский, 1822, 9].
Значение притчи архим. Сильвестр выводил из представления о Боге как Премудрости, Которая явилась в мире, «скрыв сияние Своего Божества» по причине «потемнения» света премудрости, зажженной Богом в человеческих сердцах. Фактически это утверждение подводило к мысли, что ввиду испорченности человеческого восприятия и «прикровенности» пришедшего в мир Божества и обращение Бога к человеку будет носить «прикровенные формы». Поэтому, определяя место притч в евангельских обращениях Христа к слушателям, архим. Сильвестр поставил их в ряд «спасительных наставлений, утешений, обещаний и угроз», среди которых
притчи позволяли Господу «учение Свое сделать приятнейшим, подобно живописцу, которой темный лес умеет сделать ясным, помощию красок» [Лебединский, 1822, 5]. Этими словами архим. Сильвестр попытался определить жанр притчи как жанр изящного образного языка, обладавшего большим художественным потенциалом, что позволяло слушателям Христа зримо представить суть Его учения. В таком определении жанра притчи архим. Сильвестр совершенно соответствовал духу своего времени: изображение сюжета в ярких узнаваемых человеком ХVIII в. образах обладало эффектом аллегории, которым активно пользовалась эстетическая система как барокко, так и раннего классицизма [РГЭС, 2002, 60]. Поэтому он определял содержание притч как «проницательное и чувствительное, а особливо когда простая речь или предходит, или последует оному». Иными словами, притча есть аллегория, оттеняющая прямую речь изящностью образа, без объяснения, содержащегося в прямой речи, не существующая, имеющая функцию усиления воздействия на слушателя [Лебединский, 1822, 6].
Таким образом, архим. Сильвестр одним из первых поставил в русской библеи-стике вопрос о контексте , в котором фигурируют евангельские притчи. Однако сама по себе постановка вопроса была еще весьма несовершенной, поскольку контекст, который предлагал рассматривать архим. Сильвестр, был не ситуационный, а только речевой . Это вполне понятно, если учесть эпоху, когда писал будущий архиепископ [Шибаева, 1987, 135–146]. Выделяя цели, ради которых Христос использовал язык притчи, он отмечал именно вспомогательную функцию притчи, не имевшей, по его мнению, самостоятельного значения. Так, реагируя на простоту слушателей и критику, Христос предлагал поучения в форме притч, чтобы, по мнению архим. Сильвестра, вынудить слушателей вдумываться в значение его слов более «прилежно» и «тщательно» [Лебединский, 1822, 6–7]. Приложение труда при постижении смысла притчи в конце ХVIII в. уже мыслилось не в контексте аллюзий, легко вызываемых барочными аллегориями, а как своеобразный «героизм» слушателя, отзывающегося на героизм Говорящего. Это навело архим. Сильвестра на аналогию притчи и басни, обладающей обличительным пафосом [Лебединский, 1822, 8]. В годы написания им труда о притчах уже был известен как сатирик, а чуть позднее — и как баснописец, И. А. Крылов [Святополк-Мирский, 2006, 124–125]. Поскольку в конце каждой басни Крылова следовала «мораль», т. е. вывод, расшифровывавший содержание, а в самих Евангелиях после притч толкование бывало не всегда, богослов сделал вывод, что смысл притчи отличен от басни именно неочевидностью смысла, чтобы читающий был подготовлен к ее восприятию и надеялся, что «сей смысл сам Дух Святый изъяснит» [Лебединский, 1822, 8].
Данного вывода оказалось достаточно, чтобы на протяжении более полувека к притчам не прикасались рука и ум церковного ученого. Библеисты, наука которых активно развивалась на протяжении всего ХIХ в., избегали делать выводы относительно евангельских притч, довольствуясь книгой архим. Сильвестра. Характерен в связи с этим подход консервативно настроенного протоиерея Василия Гречулевича, впоследствии архимандрита и епископа Виталия. Он, вслед за архиеп. Сильвестром, понимал под притчами «иносказания», характерные для народного образного языка и быта, характеризовавшиеся «прикровенностью» ради охранения учения от поругания [Гречулевич, 1901, 3].
К концу ХIХ в. ситуация изменилась: была написана первая (и последняя) в дореволюционной русской библеистике магистерская диссертация, посвященная притчам. Автором этого труда стал выпускник Московской духовной академии Н. И. Виноградов, защитивший свою диссертацию почти через двадцать лет спустя после окончания Академии, в 1893 г. Сама диссертация вышла в форме монографии в 1890 г. В первых строках предисловия к работе Н. И. Виноградов сразу отметил, что имеются западные работы о притчах, неизвестные в русской библеистике. Среди пособий, которыми он пользовался, была переводная книга англиканского богослова архиепископа Тренча, несколько немецких книг и труд архиеп. Сильвестра [Виноградов, 1890, 3].
Определение притчи, которое он дает в предисловии, заметно отличается от того, которое было опубликовано в «Приточнике». По мнению Н. И. Виноградова, притчей является «образная речь, в которой та или другая отвлеченная нравственная истина раскрывается наглядно в форме рассказа о каком-либо событии измышленном, но правдоподобном» [Виноградов, 1890, 5]. В этом определении очевидно не только изменение эпохи и б о льшая точность и научность мысли, но и влияние западноевропейской библейской критики. Обратим внимание на особенности данного определения, которые частично автор попытался раскрыть в дальнейших рассуждениях.
Сделав акцент на том, что мысль в притче первична, а форма ее — вторична, Н. И. Виноградов отметил, что поскольку в притче выражена отвлеченная мысль, сама притча есть прежде всего и практически не более чем фигура речи. По его мнению, мысль, выражаемая притчей, абстрактна, т. е. практически малоприложима (и предложенная Н. И. Виноградовым характеристика «отвлеченности» мысли притчи «с головой» выдает западные корни его рассуждения), что кардинально отличает выводы церковного ученого конца ХIХ в. от рассуждений ученого монаха конца ХVIII в. и вообще от церковной традиции понимания Евангелия1. Наконец, Н. И. Виноградов утверждал, что сама по себе приточная ситуация всегда есть «измышление» ее автора, т. е. не только мысль, но и форма абстрагированы от действительности. Правда, автор диссертации попытался «оправдаться» тем, что некоторые притчи «представляются до того живыми и наглядными, что трудно становится решить, есть ли подобный рассказ… простое повествование о действительно происшедшем событии». При этом правдоподобность притч Н. И. Виноградов очень неуклюже попытался объяснить тем, что в качестве «приточного материала» использовались бытовые или природные примеры (данные) [Виноградов, 1890, 5].
В определении Н. И. Виноградова наметился отход от мысли архим. Сильвестра: «народность» и образность приточного языка он объяснял «народным происхождением» Спасителя и склонностью восточного менталитета к художественной образности [Виноградов, 1890, 6–7]. Эта «этнографическая» характеристика основывалась на наблюдениях западных библеистов и знакомстве их с историко-этнографической литературой и лишила представления о притче внятности и узнаваемости современным Н. И. Виноградову читателем, что отличало подход архим. Сильвестра. Поскольку указанная образность, склонность к приточному языку, по словам библеиста конца ХIХ в., была характерна едва ли не в первую очередь еврейским раввинам эпохи Христа, т. е. книжникам и фарисеям [Виноградов, 1890, 6], то Н. И. Виноградов лишил представление о притче ставшего с легкой руки архим. Сильвестра привычным «герметизма». Однако данный вывод, в принципе логичный, оказался несовместим с традиционным объяснением слов Спасителя о притче, что притча это форма поучения для «непосвященных в тайны знания» (см. Мф 13:11–18, Мк 4:11–13), поскольку для ее понимания требовались недюжинные умственные усилия — распознание за бытовыми, внешними образами духовного смысла, что едва ли было легко делать простонародью.
Ради придания притчам возвышенного характера, после утверждения о народном характере притч, Н. И. Виноградов заявлял, что «образная приточная речь Христа Спасителя бесспорно обусловливалась тою священною важностью, тем священным достоинством, с которым Спаситель… понимал и исполнял Свое великое дело». Однако, судя по дальнейшим словам диссертанта, речь идет о том, что Христос не вполне понятными притчами хотел показать, что его учение носит второстепенный характер по сравнению с фактом спасения человечества. Сама по себе эта мысль кажется вполне мистически (а вернее, догматически) православной, однако в ней заложен тот ущербный элемент, который мешает видеть в притче народные корни. Эта мысль в корне несовместима с утверждением, что Спаситель «для осуществления этого [дела]… нередко пользовался тою словесною формою, которая приводила в сильное движение внутреннюю жизнь Его слушателей», т. е. «возбуждала внимание», «будила их воображение», «делала [истину] доступною пониманию и для лиц, мало образованных» [Виноградов, 1890, 7].
Ощущение, что мысли, выраженные в одном абзаце, не связаны друг с другом единой логикой, а соединены механически, будучи набраны из разных источников, усиливается непоследовательностью всего замысла диссертации. Так, мысль о «священном достоинстве Христа» явно взята из догматического учения Церкви (без привязки к притчам из Евангелия), Н. И. Виноградову показалось уместным адаптировать ее и к разбираемому им материалу [Виноградов, 1890, 7; Булгаков, 1993, 103–125]. Следующее звено о том, что Спаситель «не хотел, подобно мудрым мужам классической древности, основать новую школу ученых», заимствовано из западноевропейских пособий. Казалось бы, эта мысль снова могла быть подтверждена догматическим утверждением о превосходстве подвига спасения над учением. Но весь этот блок, как показалось Н. И. Виноградову, оказался единственным в предисловии местом, где можно и нужно вставить заключение архим. Сильвестра о народном характере притчи, тем более что это согласовывалось с мнениями западных библеистов.
Можно, таким образом, констатировать, что работа Н. И. Виноградова представляет собой механическое соединение различных мнений, почерпнутых им из изученной разношерстной литературы. Это наблюдение находит подтверждение, когда читатель обнаруживает, помимо попыток объяснить казалось бы противоречивые особенности приточного языка, «модную» тогда психологическую причину применения приточного языка — «идеальное, глубоко религиозное воззрение на мир и жизнь, которое нередко всему придавало значение духовного, вышеземного» [Виноградов, 1890, 7]. Сочетание этнографических наблюдений с психологическими рассуждениями и догматическими формулировками в объемах научных знаний конца ХIХ в. выглядят не только наивно и неубедительно, но и подчеркивают искусственность соединенных Н. И. Виноградовым наблюдений без попытки создать стройное, по возможности непротиворечивое видение притчи как новозаветного явления, что когда-то вполне удалось архим. Сильвестру. Пытаясь дополнить характеристику приточного языка заимствованными из различных пособий соображениями (прежде всего лингвистическими западными), Н. И. Виноградов попытался противопоставить притчу басне и аллегории. Если первое противопоставление достаточно убедительно подкреплено замечанием о роли гротеска и смеха в басенном жанре при минимуме его в приточном, то противопоставление притчи и аллегории ему явно не удалось [Виноградов, 1890, 7–9]. Аллегоричность он видел только в приточных речах Евангелия от Иоанна [Виноградов, 1890, 5].
И все же, в целом, обращение к западной библейской мысли в попытке определить роль и место притчи как евангельского жанра и формы передачи идеи оказалось в русской библеистике неудачным2. Возможно, здесь сказалась своеобразная особенность Н. И. Виноградова как не вполне убедительного компилятора, однако ни продолжателей, ни подражателей, ни оппонентов, которые взялись бы монографически пересматривать взгляды Н. И. Виноградова, не нашлось. Обращения же к отдельным притчам в журнальных статьях нечасто дают возможность понять во всей полноте, что тот или иной автор подразумевал под притчей.
Наше исследование показало, что западнический подход оказался малоприменим в традиции русской библеистики к приточному материалу в попытке синтезировать его с православной догматической системой. Возможно, трансляция западных взглядов на евангельские притчи в русскую библеистику без попыток адаптации ее под православную систему взглядов дала бы иной эффект, однако таковой в дореволюционной библеистике не наблюдается. Несмотря на некоторое кажущееся расширение кругозора выпускников духовных академий к концу ХIХ в., отразившееся в том числе и в подходе к приточному материалу, следует утверждать, что созданное вполне в духе времени, впитавшее в себя мировоззрение эпохи сочинение архим. Сильвестра являлось значительно более фундаментальным, самостоятельным и непротиворечивым трудом, посвященным евангельской притче, что и стало невольным (едва ли осознанным) поводом к переизданию его в наши дни, что не было предпринято в отношении иных русских дореволюционных изданий, посвященных евангельским притчам.
Список литературы Представление о евангельских притчах в дореволюционной библеистике
- Макарий (Булгаков), архиеп. Харьковский. Православно-догматическое богословие. СПб., 1868. Т. 2. (Репринт: М., 1993.) С. 103-125.
- Виноградов Н. И. Притчи Господа нашего Иисуса Христа. М., 1890.
- Виталий (Гречулевич), еп. Притчи Христовы. Изд. 3-е. СПб., 1901. (Первое издание - 1864).
- Иоанн Златоуст, свт. Творения. СПб.: Изд-во СПбДА, 1898. Т. 1. Кн. 2. С. 778-877.
- Сильвестр (Лебединский), архим. Приточник евангельский, или Изъяснение притчей во святом Евангелии обретающихся, на мнении святых отец основанное. С приложением душеспасительных приличных всякой притче рассуждений и богословских нравоучений. М., 1822.
- Российский гуманитарный энциклопедический словарь: в 3 т. М.: Гуманит. изд. центр Владос, Филол. фак-т СПбГУ, 2002. Т. 1. С. 60.
- Святополк-Мирский Д. П. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / пер. с англ. Р. Зерновой. Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2006. С. 124-125.
- Соколов В. А. Магистерские диспуты // Богословский вестник. 1893. No 4. С. 198-206.
- Шибаева М. М. Человеческая субъективность и культура // Культура, человек и картина мира / отв. ред. А. И. Арнольдов и В. А. Кругликов. М.: Наука, 1987. С. 135-146.