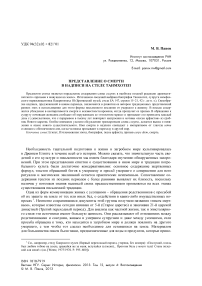Представление о смерти в надписи на стеле Таимхотеп
Автор: Панов Максим Вячеславович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Предметом статьи является определение содержания слова смерть в наиболее поздней редакции древнеегипетского «призыва к живущим на земле». Источником сведений выбрана биография Таимхотеп, супруги мемфисского первосвященника Пашринптаха III (Британский музей, стела EA 147, строки 15–21, 42 г. до н. э.). Своеобразие надписи, предложенной в новом переводе, заключается в развитии ее автором традиционных представлений ранних эпох и использовании для этого формы письменного послания от умершего к живому. В письме содержится убеждение в неотвратимости смерти и неизвестности времени, когда прозвучит ее призыв. В обращении к супругу почившая женщина сообщает об окружающем ее «тягостном мраке» и призывает его проводить каждый день с удовольствием, что с перерывом в тысячу лет повторяет настроения и мотивы «песен арфистов» из гробниц Нового царства. Особое внимание уделено обсуждению транскрипции слова смерть, делается вывод о появлении в языке нового существительного. Имя смерти в надписи совпадает с императивом от глагола идти и связано с обозначением дня, когда человека призывают к переходу в другой мир.
Египет, птолемеевская эпоха, биография, песнь арфиста, призыв carpe diem, смерть
Короткий адрес: https://sciup.org/147218822
IDR: 147218822 | УДК: 94(32).02
Текст научной статьи Представление о смерти в надписи на стеле Таимхотеп
Необходимость тщательной подготовки к жизни в загробном мире культивировалась в Древнем Египте в течение всей его истории. Можно сказать, что значительную часть сведений о его культуре и письменности мы имеем благодаря изучению обнаруженных захоронений. При этом представления египтян о существовании в ином мире и традиции погребального культа были достаточно консервативными: основное содержание жертвенных формул, текстов обращений богов к умершему и просьб умершего о совершении для него ритуалов и магических заклинаний остается практически неизменным. Сопоставление содержания текстов из поздних периодов с более ранними выявляет их близость, поскольку наличие у потомков знания надписей своих предшественников проявляется на всех этапах существования письменной традиции.
Одна из форм коммуникации живых с усопшими – обращения родственников с просьбой об их защите на земле от тех или иных бед, о содействии в каких-либо имущественных вопросах 1. Немногие сохранившиеся документы этой группы получили названия «писем мертвым», которые известны сегодня начиная от 5-й (Старое царство) и закачивая 21-й царской династией (Третий переходный период). Для анализа как частной жизни, так и эпистолярного стиля эти источники имеют большую ценность. Они рассказывают об отношениях между родственниками и соседями, живым и умершим супругами и даже между усопшими, если просьба обращена к тому, кто находится в загробном мире и должен повлиять на другого умершего, с тем чтобы тот сделал необходимое для оставшихся на земле. Материалом для большинства писем были чаши, предназначенные для воды и продуктов, которые прино- сились в жертвенный дар. Посредством посланий осуществлялось общение с умершим, как и в земной жизни, именно они связывали людей, находящихся в разных местах. В свою очередь умерший обычно обращался к оставшимся на земле в речах, зафиксированных на стенах его гробницы, с просьбами о пожертвовании и поминовении его имени или рассказывал им о своей жизни с помощью автобиографии на памятном камне.
Особенным образом об отношении к жизни и смерти сообщают так называемые «песни арфистов», которые стали появляться после Первого переходного периода в основном на стенах гробниц. Надписи сопровождались изображениями музыкантов, прославляющих место будущего пребывания. Важны два основных мотива, заложенные в них. Первый – обращение к владельцу гробницы, чтобы тот старался прожить на земле счастливые дни. Поскольку место будущего упокоения создавалось им еще при жизни, совет проводить каждый день с удовольствием был своевременным. Приходя в гробницу для осмотра работ по ее обустройству, владелец гробницы мог бы размышлять об оставшемся времени жизни. После его смерти эти тексты так и оставались на стенах, передавая посетителям места его вечного пребывания скептическое отношение к потустороннему существованию и утверждая, что проводить время жизни следует с радостью и с наслаждением 2. Второй мотив – это неизбежность перехода в подземный мир и заверение в том, что нахождение в нем является благостным 3. Это должно было примирить человека с мыслями о неизбежной смерти и побудить позаботиться о лучшем приготовлении к ней.
Биография Таимхотеп
Традиция создания текстов в форме «песен арфиста» обрывается с началом Третьего переходного периода (конец II тыс. до н. э.). Несмотря на огромное количество источников от этого времени, исчезают и любые свидетельства обращений к мертвым с помощью каких-либо писем. Но повествование о беззаботном жизненном пути – как ответ на призывы некоторых песен – перешло в биографии позднего периода, особенно в женские 4. Спустя целое тысячелетие после последней сохранившейся песни арфиста, в конце эпохи эллинизма (середина I в. до н. э.), мы встречаемся с новым египетским текстом этой тематики – надписью на стеле Таимхотеп. Эта женщина была представительницей семьи мемфисских верховных жрецов Птаха при династии Птолемеев, передававших по наследству свои должности на протяжении трех столетий и занимавших верхнюю ступень в общественной иерархии. Пашринптах III, ее супруг, был тем, кто проводил ритуал коронации в Мемфисе Птолемея XII, а титулатура обоих супругов сопоставима в ряде случаев с царской (многие звания самой Таимхотеп совпадают с теми, которые носила в свое время Хатшепсут, но более важно отметить идентичность некоторых из них с теми, что были у ее современницы и правитель- ницы 5 Клеопатры VII Теа Филопатор). Жизнеописание сохранило и имя его создателя – жреца Хора Имхотепа 6; перед нами редкий случай древнеегипетского произведения, подписанного автором.
Автобиография Таимхотеп, рассказывающая о важных событиях ее жизни (о ее рождении и смерти, замужестве и детях), заканчивается отдельной речью в адрес супруга. Данное обращение отчасти повторяет настроения и мотивы песен из гробниц Нового царства. Главная его особенность заключается в том, что значительно преображенная «песнь арфиста» вложена уже не в уста музыканта, поющего для живого, но исходит от умершего. Текст оформлен как ответное письмо от мертвого к живому, от того, кто уже получил опыт пребывания там . Давая определение смерти и описывая потустороннее местонахождение как «тягостный мрак» 7, женщина убеждает своего супруга (который переживет ее лишь на полтора года) в необходимости отдохновения от забот.
«Обращение к живущим» на стеле Таимхотеп (строки 15–20) 8:
«О, мой любимый, супруг и друг, великий управляющий мастерами!
Да не устанет сердце твое от того, чтобы пить и есть, пьянеть (16) и любить! Проводи сча-стливы(е) дн(и), следуй своему желанию днем и ночью! Не впускай печаль в свое сердце! Иначе что же это за твои годы, проведенные на земле?
А Запад 9 – это земля в вечном покое, тягостный мрак, место пребывания для «находящихся там», спящих на своих ложах. Не (17) просыпаются они, чтобы увидеть своих братьев, и не видят они своих отцов и своих матерей, их сердц(а) забыли их жен и детей. Вода жизни, которая есть <на> земле, предназначена она для каждого <человека> на ней, жажда (к этому) у меня! Но приходит (18) она (лишь) к тому, кто на земле. Я жажду, а вода рядом со мной. Не знаю я места где нахожусь, с тех пор как добралась я до этой долины. Дайте же мне воду, которая течет!
Скажите же мне:
«Да не будет далеко [твое] обличие от (19) воды!». Подставьте (по крайней мере) мое лицо к северному ветру, к берегу, и, возможно, остынет мое сердце от своих страданий.
Что касается смерти, то имя ее – «Приди!». Все, кого она зовет к себе, тотчас приходят к ней, при этом их сердца трепещут от страха перед ней. (20) Нет никого среди богов и людей, кто смог бы увидеть ее. Великие в ее руке также как и малые. И нет никого, кто смог бы отвратить ее руку ни от <себя>, ни от всех дорогих себе (людей). Она крадет сына у его матери, хотя старик уже блуждает недалеко от нее. Все трепещущие молятся перед ней, но не обращает она на них свое внимание, не приходит <она> к взывающему к ней, (21) не слышит она и восхваляющего ее. Нельзя увидеть ее, (чтобы) преподнести ей подарки, состоящие из всевозможных вещей».
О смерти и ее имени (комментарий к строке 19)
jr mАw mj rn=f «Что касается смерти, то имя ее – “Приди!”».
Идентификация слова вызывает споры, здесь его фонетическое и лексическое значения рассматриваются как результат использования в языке стилистического приема иносказательности. Обычно в этом слове видели позднюю графику mwt 10, но не приводили доказательств, поскольку ни группа , ни знак не зафиксированы в словах с корнем mwt. Последний иероглиф – это детерминатив, указывающий на персонифицированное бо жество, а три знака вместе – Aw – буквально должны быть поняты как «простирающийся». Видимо, здесь подразумевается божество подземного мира, схожее с тем, которое встречается в одной из редакций книги «Амдуат» («четвертый час») на антропоморфном саркофаге Ташет 11, и написание имени которого является сокращением от бога(-ов), име-нуемого(-ых) как Aw-a «тот, кто простер (свою) руку» 12.
Слова с корнем Aw «даль», «длина», «быть длинным» зафиксированы уже в староегипетском языке. Среди них есть выражавшие радость или удовлетворение, а со времени Среднего царства основное значение дополняется новым оттенком. Значения объемности и полноты передавались выражением r-Aw «целиком, полностью, до конца» (к Aw присоединяется предлог r), понятие удаленности стало связываться с описанием смерти. Так, встречаются высказывания типа «Имярек, который отдалился», т. е. умер. Процесс совмещения предлога m, равнозаменяемого в греко-римское время с r, со словом Aw был завершен на Птоле- меевской стадии развития египетского языка. По моему мнению, группа могла
быть образована от уже существовавшего слова путем присоединения префикса 13 m (знак ). Так возникло единожды употребленное имя существительное (hapax legomenon), что не редкость в египетских надписях.
Смысл образования имени «Приди!» у смерти в виде обращения к живому берет свое начало в «песнях арфистов». Когда к визирю Пасеру (правление Рамсеса II) со стен его гробницы обращается музыкант, он в частности, поет: «[Помни] о том дне, (когда скажут) “приди же!”» 14. В развитии представления о том, что человека призывают уйти из жизни и прибыть в другой мир, императив глагола идти становится нарицательным именем самой смерти. Однако того негативного отношения к уходу из жизни, которое можно увидеть в более ранние периоды 15, здесь нет. Имя смерти отражает неотвратимость ее прихода и неизвестность времени, когда живущий услышит призыв к уходу в иной мир. Вместе с этим сохраняется свобода оставшегося на земле выбрать для себя праздный образ жизни.
Cвязь содержания так называемой «песни о смерти», датируемой 42 г. до н. э., с различными более ранними египетскими источниками очевидна, хотя и не полностью проиллюстрирована примерами в данной статье. Появление такого сочинения, необычного лишь на первый взгляд, результат развития традиционных представлений времени Среднего и Нового царств подписавшимся под ним автором. Способ выражения этих мыслей хотя и соответствует существовавшей форме общения между родными людьми с помощью посланий, но несет в себе и новизну, так как это первое письмо от умершего к конкретному живому человеку, а не речь ко всем проходящим по некрополю людям.
Список литературы Представление о смерти в надписи на стеле Таимхотеп
- Панов М. В. Источники, свидетельствующие об авторе автобиографий семьи мемфисских жрецов I века до н. э. // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. Т. 11, вып. 4: Востоковедение. 2012. С. 26-30.
- Budge E. A. E. The Chapters of Coming forth by Day or the Theban Recension of the Book of the Dead. L.: Kegan oths., 1910. Vol. 1-3.
- Černy J., Gardiner A. H. Hieratic Ostraca. I. Oxford: Univ. Press, 1957. x + 35 p., pls. Erman A. Zwei Grabsteine griechisсher Zeit // Festschrift Eduard Sachau. Berlin: G. Reimer, 1915. S. 103-112.
- Hannig R. Ägyptisches Wörterbuch II. Mittleres Reich und Zweite Zwischenzeit. Tl. 1-2. Mainz: Ph. von Zabern, 2006.
- Hari R. La tombe thébaine du père divin Neferhotep (TT 50). Genève: Editions de Belles-Lettres, 1985. 159 p.
- Hodjash S., Berlev O. The Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow. Leningrad: Aurora Art, 1982. 311 p.
- Jansen-Winkeln K. Die Hildesheimer Stele der Chereduanch // Mitteilungen des Deutschen archäologischen Instituts, Abt. Kairo. 1997. Bd. 53. S. 91-100.
- Kitchen K. A. Ramesside Inscriptions. Historical and Biographical. Oxford: Blackwell, 1969-1989. Vol. 1-8.
- Kurth D. Einführung ins Ptolemäische: eine Grammatik mit Zeichenliste und Übungsstücken. Tl. 1-2. Hützel: Backe, 2007-2008. 1139 S.
- Lesko B. S., Lesko L. H. Dictionary of Late Egyptian. Berkeley: B.C. Scribe Publications, 1982. Vol. 1.
- Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezechnungen / Hrsg. Ch. Leitz. Leuven, Paris & Dudley, MA, 2002. Bd. 1-7.
- Panov M. Die Stele der Taimhotep // Lingua Aegyptia. 2010. Vol. 18. S. 169-191.
- Reymond E. A. E. From the Records of a Priestly Family from Memphis: Wiesbaden: Harrassowitz, 1981. Vol. 1. xix + 285 p., 3 fig., 17 pl.
- Erman A., Grapow H. Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Neudruck. Berlin: Akademie, 1971. Bd. 1-5.
- Wente E. F. A Misplaced Letter to the Dead // Orientalia Lovaniensia Periodica. 1975/1976. Vol. 6/7. P. 595-600.