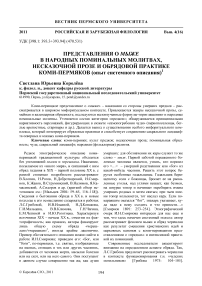Представления о мыже в народных поминальных молитвах, несказочной прозе и обрядовой практике коми-пермяков (опыт системного описания)
Автор: Королва Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
Коми-пермяцкое представление о «мыже» - наказании со стороны умерших предков - рассматривается в широком мифоритуальном контексте. Привлекаются жанры несказочной прозы, семейная и календарная обрядность; исследуются малоизученные формулы-«приглашения» и народные поминальные молитвы. Уточняется состав категории «предков»; обнаруживается принципиальная вариативность персонажей, фигурирующих в сюжете «самопогребения чуди» (первопоселенцы, беглые крепостные, староверы и др.). Делается вывод о существовании особого мифоритуального комплекса, который интегрирует обрядовые практики и способствует сохранению сакрального ландшафта северных и южных коми-пермяков.
Коми-пермяки, культ предков, несказочная проза, поминальная обрядность, чудь, сакральный ландшафт, народная (фольклорная) религия
Короткий адрес: https://sciup.org/14729045
IDR: 14729045 | УДК: [398.1:
Текст научной статьи Представления о мыже в народных поминальных молитвах, несказочной прозе и обрядовой практике коми-пермяков (опыт системного описания)
Редкое этнографическое описание коми-пермяцкой традиционной культуры обходится без упоминаний мыжи и черешлана. Наказание, посылаемое из «иного мира», и связанный с ним обряд гадания в XIX – первой половине XX в. с разной степенью подробности рассматривают В.Хлопин, Н.Рогов, Н.Добротворский, И.Смир-нов, К.Жаков, В.Струминский, В.Налимов, Я.Ка-масинский, А.Сидоров и др. (краткий обзор источников см.: [Мальцев 2004: 59–65, 116–118]). Сведения о бытовании обряда в XX в. и новые подходы к его осмыслению содержатся в работах Л.С.Грибовой, И.В.Ильиной, Н.Д.Конакова, Г.И.Мальцева, В.В.Климова, Г.Н.Чагина, Е.М.Четиной и И.Ю.Роготнева. Характеризуя источники XIX – начала XX в., отметим их фак-тографичность; как правило, авторы фиксируют лишь общую схему обряда «череш-лан»/«черешван»2, иногда крайне лаконично. Пример обстоятельного описания можно найти в работе И.Н.Смирнова; приведем его: «Бог, или “боги”, по-пермяцки, т.е. святые, изображенные на иконах, стоящих в тех или других часовнях, добиваются от человека жертв, насылая болезни или на скот, или на него самого. Они поступают в данном случае совершенно так же, как души умерших: для обозначения их кары служит то же слово – мыж. Первой заботой пораженного болезнью человека является, узнать, кто поразил его <…> – умерший родственник или «бог» из какой-нибудь часовни. Решить этот вопрос берутся особенные гадальщицы. Гадальщик берет щепотку соли с божницы, бросает ее на раскаленные уголья, над углями вешает, как безмен, на шнурке топор и начинает перебирать имена умерших родных и затем святых; при чьем имени топор колыхнется, тот наслал кару. Если покаравшим оказался “бог”, знахарь указывает, куда надо к нему сходить и что принести…» [Смирнов 1891: 253–254]. Этнографический очерк И.Н.Смирнова интересен для нас еще и тем, что здесь намечен системный подход: автор рассматривает феномен мыжи и обряд черешлан как результат смешения христианских идей и церковных канонов с коми-пермяцкими представлениями о «предках» и интенсивной практикой их поминаний.
Современные исследователи акцентируют внимание на определенном аспекте обряда. Так, Л.С.Грибова предлагает рассматривать черешлан в контексте функционирования т.н. «чудских могильников» [Грибова 1975: 104–105].
Г.И.Мальцев исследует его в контексте народной медицины, сопоставляет локальные варианты, выявляет структуру, подробно описывает способы ритуального «искупления вины». Архаичный обряд гадания интересен ему как механизм взаимодействия с «иным миром» (в процессе которого «черешланщик» выполняет функцию посредника) [Мальцев 2004: 61, 116–118]. Новый полевой материал содержится в монографии В.В.Климова и Г.Н.Чагина [Климов 2005]. Однако, как нам кажется, сложившаяся в этнографической литературе традиция изолированного рассмотрения различных обрядово-ритуальных комплексов до сих пор не позволила в достаточной мере выявить интегрирующую функцию представлений о мыже и обряда черешлан, которые связывают семейно-бытовую, календарную народную обрядность и церковный календарь в единую систему.
В числе работ, преодолевающих фрагментарность описания «поля традиционной культуры», укажем монографию Е.М.Четиной и И.Ю.Рогот-нева: рассматривая традиционные поминальные практики в их отношении к сакральному ландшафту, авторы убедительно раскрывают связь (ранее на коми-пермяцком материале не описанную) между культом предков и почитанием водных источников ( озер , родников ) [Четина 2010: 73–78]. Наши полевые материалы позволяют показать, как в определенные дни подобные представления актуализируются в связи с реками . Кроме того, впервые в данном контексте мы подробно рассмотрим бытование практически не изученного жанра – народных поминальных молитв (далее – НПМ).
Полевые записи и наблюдения, представленные в работе, были сделаны автором в составе экспедиций университетской лаборатории культурной и визуальной антропологии (ЛКиВА; рук. Е.М.Четина), проводившихся на территории Гайнского, Косинского, Кочёвского, Кудымкарского и Юсьвинского районов Коми-Пермяцкого округа (далее – КПО) в 1999–2005 и 2011 гг. Привлекаются также фольклорноэтнографические свидетельства XIX–XX вв., позволяющие проследить динамику интересующих нас явлений народной культуры.
Формулы-«приглашения» и народные поминальные молитвы. В 2000 г. в с. Пуксиб Косинского района была записана редко встречающаяся народная поминальная молитва. Текст ее достаточно примечателен, чтобы привести его полностью: Господи Исусе Кристе, Сыне Божие, молитвами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь (3 раза). Помяни, Господи, первых лю- дей: Евгия Адама, Петра Павла, Кузьма За-клюшника, Осипа Задверника, Царья Давыда, Царья Свяшшенника, митрополиты, архипоман-дриты, <нрзб> Иона. Три тысячи младенцев, три тысячи младенцев, три тысячи младенцев. Мать сыра земля, открывайте ворота лево и направо, отпускайте всех моих сродников, всех моих родителей, всех моих родственников. Помяни, Господи, военных солдатов, на поле пропавших, честных и праведных, топором отчи-канных, ножом отрезанных, землей задавленных, ружьём застреленных, в воду утопляшшиеся, без вести пропашшиеся, Иван Батальонок. Помяни, Господи, все мои родители, все мои родственники, сысстари дедушки, сысстари бабушки, знавшие и не знавшиеся, в воду утопляшшиеся, в огне загоревшиеся, в лесу заблудяшшиеся, бездетные благодетели и добродетели, плодные и бесплодные, близкие и дальние, петлей висяш-шиеся, на дороге пропавшиеся, водой умывавшиеся. Вологодская Богородица, Варвара Мученица, идите, помяните, что у меня есть на сто-ле3 (ГИА – см. список информантов). По сообщению информанта, эту молитву она читает на всех поминальных обедах, в т.ч. устроенных для избавления от мыжи.
В ходе исследований обнаружилось, что произведения этого жанра до сих пор бытуют в ряде сел и деревень Кочёвского и Косинского районов КПО. На сегодняшний день сотрудниками ЛКи-ВА зафиксировано около полутора десятков текстов (некоторые из них опубликованы [Королёва 2004: 83, 90; Четина 2010: 214–215]); еще несколько НПМ известны по записям сыктывкарской исследовательницы С.В.Чугаевой [Чугаева 2007: 360; Чугаева 2008: 267]. По-видимому, целостное описание коми-пермяцких НПМ как особого жанра религиозного фольклора – задача самого ближайшего будущего; теперь же, опираясь на вышеприведенный текст, покажем их связь с представлениями о мыже и обрядом че-решлан.
По месту, времени и цели произнесения НПМ пересекаются с обращениями к умершим – приглашением их на поминальную трапезу. Такого рода формулы-«приглашения», предполагающие некоторую импровизацию, широко известны у северных русских, у финно-угорских народов Поволжья и Приуралья4; бытуют они и в Пермском крае. Поминальные «обеды» в традиционной культуре коми-пермяков не ограничиваются похоронно-поминальным и календарным циклом, а распространяются на сферу повседневности. Многие пожилые женщины поминают умерших каждый день: разломив испеченный хлеб, они приглашают «старых дедушек и бабушек» поесть: А я стряпаю, дак: “Идите, дедушки, бабушки, кушать!” (Смеется). У меня всех надо поить-кормить. А я когда стряпаю, дак всех поминаю: “Идите, кушайте, знающие, незнающие!.. Не знаю, как звали, да идите кушайте!” Они не кушают, только паром хлебаются (ЕАИ). По-видимому, интенсификации поминальных практик во многом способствует вера в мыжу: одной из основных причин «наказания» становится отсутствие положенных «обедов».
Как и формулы-«приглашения», НПМ направлены на то, чтобы пригласить души умерших «к столу»; не случайно с них обычно и начинаются поминки (домашние; на могиле родных; коллективные на старых могильниках – «важ-местах»). Поминальная трапеза осмысляется здесь как «кормление» временно отпущенных с того света душ (« Идите, помяните, что у меня есть на столе »); «приглашение» получают и христианские святые ( Вологодская Богородица, Варвара Мученица ), которые тоже могут наслать мыжу (обычно – за непосещение молебнов в престольные праздники). Хорошо прослеживается магическая функция данного текста – целенаправленное воздействие на сверхъестественные силы, – что сближает его с жанром заговора (« Мать сыра земля, открывайте ворота лево и направо, отпускайте всех моих сродников, всех моих родителей… »)5.
Обращает на себя внимание тщательность, с какой в молитве перечисляются лица, попадающие по отношению к говорящему в категорию «предков»: это все сродники, родители, родственники, «сысстари дедушки», «сысстари бабушки», «знавшие и не знавшиеся» [т.е. неизвестные]. В этом же ряду упоминаются христианские персонажи: первые люди Адам и Ева, ветхозаветные пророки и праведники, «три тысячи младенцев» (погубленные царем Иродом), иерархи Церкви и др.; все они, таким образом, составляют единый ряд/род, а Адам и Ева, открывающие перечисление, выступают как «первопредки». Показателен комментарий, записанный от пожилой жительницы с. Пуксиб – участницы коллективного поминального молебна на одном из «важ-мест»: Деревня Войвыл, 3 километра отсюда, там мыжу лечат. Там [на Шой-наыбе] Адам и Ева похоронены, они боги были. Ева, да Адам, да еще митрополиты какие-то. Их поминать ходят в субботу перед Троицей… (ФОА).
В НПМ очевидна ориентация и на церковные формы богослужения. В качестве одного из источников этого жанра можно указать проскоми- дию – начальную часть литургии, во время которой звучат имена ветхозаветных пророков, апостолов, почитаемых святых, упоминаются покойные служители церкви. Здесь же зачитываются записки с именами усопших, заранее поданные прихожанами. По-видимому, эта структура по-своему воспроизводится в НПМ. Церковь предписывает также поминать умерших в частных домашних молитвах; для этого во многих семьях раньше велись помянники («поминальники») – книжки, куда вписывались имена усопших родственников, свойственников, их памятные дни и т.п. Такие поминальники нам не раз доводилось видеть в северных районах КПО. Их необходимость мотивировалась не только важностью своевременных поминок, но и использованием в обряде черешлан: желая узнать, кто именно «дал мыжу», человек приходит к череш-ланщице с готовым списком «своих» умерших. Примечательно, что сам обряд магического гадания включает в себя последовательное перечисление различных «предков», частично воспроизводя структуру и содержание НПМ.
Особо нужно сказать о другом источнике этого жара религиозного фольклора. Народные молитвы определенно связаны с Вселенскими Панихидами, которые служатся в т.н. Вселенские родительские субботы (на Мясопустной неделе и перед Троицей); только в эти дни, дважды в год, Церковь поминает всех «от века» умерших христиан и особо молится об умерших внезапной смертью: «на чужбине, от голода и болезней, в море, на пожаре, от бед и несчастий», т.е. без покаяния [Псалтирь и каноны 2002: 24–25]. В НПМ упоминаются те же категории усопших (не всегда обозначенные грамматически верно, т.к. тексты бытуют на русском языке): топором от-чиканные, ножом отрезанные, ружьём застреленные, в огне загоревшиеся, в лесу заблудяш-шиеся и т.д . Однако есть среди них и те, кого в церкви не поминают, – петлей висяшшиеся , т.е. самоубийцы. Согласно народным представлениям вместе с прочими погибшими не своей смертью они составляют категорию умерших, нуждающихся в особом поминовении (по терминологии Д.К.Зеленина т.н. «заложные покойники» [Зеленин 1994: 231, 239]). Таким образом, упоминание «заложных» в народных молитвах является, по-видимому, не случайным и отражает традиционное крестьянское отношение к ним.
Последняя группа персонажей, которых важно упомянуть, обеспечивает тесную связь НПМ с реальными географическими объектами, в т.ч. образующими местный сакральный ландшафт. Речь идет о первопоселенцах – основателях сел и деревень, иногда наделяемых чертами богатырей и отождествляемых с мифологическим «чудским народом» («Юкся, Пукся, Чадзь, Бадзь», «Бора, Мока, Улита, Полита», «мокинские, нюрмöдорские, шойнаыбские».).
«Чудские места». Сюжет самопогребения и его контаминации . Такие персонажи фигурируют во многих текстах НПМ. Приведем два из них. Первый был записан в 2002 г. на коллективном поминальном молебне и обеде, проводившемся на Важ-Чадзёв. Это место, расположенное неподалеку от д. Чазёво Косинского района, где похоронены важ отир («старые люди»): Помяни, Господи, все святые, Давыда да Данила, <нрзб> , отпустите, грешники, праведных, помяните Господа православных крестьян, крестолюбивые воинства всех погибших. Дорожники, военнопленные, нищие, жаждущие, все заблудившие, утопляющие, суседы, братья, сестры, старые, девицы, Чадзь, Бадзь, Юксь, Пуксь, мо-кинские, шойнаыбские, нюрмöдэрские (БКЕ). Вторая молитва записана нами в 2011 г. на подобном же коллективном молебне, на т.н. Борин-ском могильнике, неподалеку от д. Борино Ко-чёвского района: Помяни, Господи, Ева и Адама, Мока и Бориса, Улита и Полита, Кузьма, Кач, Бач, Портог и Домна, Сучковских, Бачковских, всех попов, всех дьякОв, всех серебрЯнников, нА море острОвщиков, пустынщиков <…> [в] больнице умирающих, [с] голоду умирающих, бездетных, беспризорных, сироты и вдовицы, кормлящих и поящих, подАющих милостины и всех православных христиан, безбожных, коммунистов, ключники-замочники, Царья Давыта, Ивана Батожника, отворяйте ворота, отпустите наших родителей на честный, на праведный обед (ГТВ).
Оба «важ-места» описаны в научной литературе. Большое количество сведений о культовых местах, функционировавших на территории КПО в конце 1950 – середине 1960-х гг., ввела в научный оборот Л.С.Грибова [Грибова 1964; Грибова 1975: 104–105 и др.]. Ей же принадлежит наблюдение, что их статус бывает различным. Наиболее почитаются т.н. «чудские могильники» – старые захоронения, с которыми связывается сюжет о самопогребении «старых людей» (по-видимому, все они когда-то наделялись способностью «давать мыжу» и были включены в троицко-семиковые коллективные поминальные обряды). Некоторые из таких могильников пользуются локальной известностью, другие – гораздо более широкой. В числе действующих мест поминовения Л.С.Грибова называет «чудскую часовню» в поле Таркэ-мыс близ д. Куделька, «ста- рое кладбища» в с. Б.Коча, место у старой березы в с. Коса, поля Шойнаыб (коми-перм. «кладбищенское поле») около д. Пеклаыб, в д. Ильинчи и Сюзьпоз. Однако самыми известными считались места Важ Шойна (коми-перм. «старое кладбище») у д. Борино (бывшее Мокино) и Важ-Чадзёв возле д. Чазёво6. О том, что два этих могильника по-прежнему включены в число почитаемых мест, свидетельствуют современные исследования [Климов 2005: 155–161; Четина 2010: 40–41; Чугаева 2007; Чугаева 2008]. Приведем дополнительные сведения7, обнаруживающие связь «старых могильников» с представлениями о мыже, обрядом черешлан и НПМ.
К Боринскому могильнику, называемому Чёрной Мокин, имеют отношение упоминаемые в молитвах «мокинские»; некоторые из них известны по именам (Бора, Мока, Улита, Полита). В паломнический ареал этого почитаемого места до недавнего времени входил практически весь Кочёвский и северо-западная часть Косинского районов; приезжают сюда и те, кто давно живет за пределами КПО. О масштабности коллективных поминальных молебнов, проходивших в 1960-х гг., свидетельствует записанный нами рассказ очевидицы, посетившей один из них в юности: Отсюда [из д. Бачманово, 16 км.] 3 человека ходили пешком. Мы ночью вышли, а утром там были. Там, в Мокине, сироты! Каких только нет: косые, без рук, без ног… Ну, я насмотрелась! Мама мне дала приклад – полотенце да пирог. Это надо там сиротам отдать. Мы пришли – а к нам уж бегут: полотенце, пирог – всё схватили. Кто и схватил, не увидела. Ну и народу там было! (КМС). День поминовения важжез («старых») называют Пестера: ПестерА – суббота перед Троицей. Там делают поминки, где старые люди себя закопали. Раньше очень жили плохо. Нечего кушать – семья зайдет в могилу, в яму. Там стойки сделают, крышку, на нее землю набросают. Зайдут туда и стойки рубят, себя хоронят. Ой, как они плохо жили! Звали даже это место Чёрной МОкин: срубов не было, землянки себе строили, топили тоже по-черному, дымно было. Окна маленькие. Это старики рассказывали (РАС). Некоторые называют причиной самопогребения «первых людей» их бездетность: Мокей и Борис8, у них жены были Ульяна и Пелагия. Это первые люди тут. Самые первые. …Тут же могила-то большая, могильник вот тут был, в огороде… А вот раньше тут часовЕнка стояла у нас. Вот мыжу и дают Мока и Бориса, Улита и Полита. Они когда-то сами копали яму… У них дети, гово- рят, не были, и они сами себя там похоронили, вот и всё (ХМЯ).
Вторым по степени значимости «важ-местом» считается Важ-Чадзёв, имеющий двучастную структуру. Жители Чазёво и окрестных деревень почитают два могильника, расположенных менее чем в полукилометре друг от друга – в сосновом лесу и на берегу реки, – где, по поверью, женщины захоронили себя отдельно от мужчин: Рядом Куждор место называется, вот Шойнаыбские девицы и есть. Их всегда вспоминают. Они тоже похоронились: столбы подрубят, ну, и земля придавит. У нас, когда поминки делают покойнику на 40 дней, на 3 недели, их тоже поминают всегда. Дома поминают за столом, Шойнаыбских девиц-то (СМЕ). В ходе исследования были выявлены и другие упоминающиеся в НПМ «важ-места», собрана информация об их функционировании, зафиксирован корпус текстов. Вплоть до недавнего времени местом почитания косинцев был Шойнаыб, расположенный среди леса по дороге в д. Пеклаыб. По виду это старое заброшенное кладбище, без крестов, с едва различимыми могильными холмиками: Здесь жили когда-то люди. Жили бедно, семьи большие были, голодовка была, страшные года. И хоронились тут – лет сто уже, наверно, прошло. Может, больше, – сто пятьдесят. Вот, от голода они тут “приземлились”. Сейчас старухи ходят тут в субботнее время, во время Семиков да что там, – в спомяльные дни. В субботу после Семика. Наши приходят из Пеклаыба, из Чазёво… – тоже родственники тут ведь есть наши [среди умерших]. А поминают – что-нибудь настряпают. И сядут тут, и выпивают… (БНС).
Однако теперь на Шойнаыбе не поминают, а само место перешло в разряд «страшных»: Сейчас не ходят, бояться стали. Оно, говорят, предсказания дает: если тебе какая-то беда, то что-то там увидишь или услышишь. Три года назад один мужик задавился там – может, тоже кого-то там видел. Мать моя туда еще ходила, а я нет, боюсь (СМЕ). По-видимому, еще раньше вышел из числа почитаемых «важ-мест» Нюрмöдор. Его помнят только некоторые старожилы, причем проведение поминальных обедов предстает в рассказах как нежелательное, даже опасное: Одна женщина пошла туда молиться. Ложила хлеб, ложила, что принесла. Вот яичко бежало, и бежало, и бежало, и бежало – и в яму упало. И в тот год сама умерла она, старушка уже была. Она их поминать ходила. Во сне ей снились: “Всех, – говорят, – поминают, а к нам никогда ни один не идёт”. Она и пошла. Они вдвоём были. Другая старушка на второй год умерла, а та, у кого яичко упало, до года умерла (СМЕ). Переход «важ-мест» из почитаемых в заброшенные и пользующиеся «плохой славой» – это естественная динамика их функционирования. В окрестностях д. Вершинино Кочёвского района известен Чучкый-гряд-мыс, где якобы «выходит» клад и что-то «видится», поэтому его стараются обходить стороной. Сходная репутация и у мыса Канявöр, расположенного рядом с д. Митино, на частном покосе: Предвещается тут, что ли. Добра-то не жди. Однако, по словам хозяйки покоса, вместе со старушками она иногда ходит сюда поминать «старых людей».
Очевидно, что в НПМ сохраняются названия старых заброшенных кладбищ и имена основателей деревень (возможно, реальных лиц). Так, в полевых записях Л.С.Грибовой упоминается, что в д. Илинчи поминали «первых старых» Сергея, Матвея и Парася , в д. Сюзь-Позья – Изосима и Савватея [Климов 2005: 157]. Некоторые из первопоселенцев широко известны и наделены легендарными чертами, в т.ч. «богатырской силой»: Тут деревни четыре брата построили, так у нас говорили. Давно еще. У них один топор был. Вот первый, Юкся, построил Юксеево и второму кинул, пуксибскому-то. Тот построил Пуксиб и кинул в Чазёво. Тот тоже деревню построил и кинул топор четвертому. А это наша деревня и есть, Бачманово (КМС). Предания о братьях-первопоселенцах, построивших деревни «одним топором» (вариант: мерившихся силой и перекидывавшихся большими камнями) известны и в других местах. Так, в окрестностях д. Маскаль Кочёвского района есть поросшая лесом сопка Куропкаг (Курэгкар); богатырь, живший на ней, перебрасывался топором с соседом на Ошмысе. Куропкар считается также местом, где зарыта «золотая дуга»9. Похожее предание бытует в южном Юсьвинском районе: здесь на «горах» (холмах, сопках) жили три брата, которые «топор кидали друг другу из Карасова, Дойкара и Чудгорта» [Юсьвинский район 2010: 9–10].
Одной из актуальных задач является уточнение ареала бытования такого рода преданий в КПО. Материалы полевых исследований ЛКиВА свидетельствуют, что в настоящее время между локальными традициями южных (кудымкарско-иньвенских) и северных (косинско-камских) коми-пермяков наблюдаются существенные различия. В южных районах нами не записано ни одного упоминания о коллективных поминках на «чудских» местах (здесь им соответствует почитание водных источников); не записаны там и
НПМ. Предания о чуди также встречаются реже; в нашем архиве они представлены единичными текстами: От людей слыхал, есть тут подземный ход… Здесь раньше люди жили, как их, чук-чай-народ назывались. Роста они были маленького. И жили всё больше грабежом. Вот соберутся вместе и идут другие деревни грабить. …Награбят, а потом в ходах прятались (КАФ). «Чудские» сюжеты на этих территориях имеют тенденцию редуцироваться до простых упоми-наний10: Легенду такую слышала от стариков. На Кырдымском Городище жили когда-то люди, потом устроили обвал и погибли там. На этом месте находили подвеску, один житель Кырды-ма нашел… (КВЗ). Примечательно, что о череш-лане большинство жителей южных районов имеют в настоящее время очень смутное представление, а мыжу смешивают с «порчей».
Важно уточнить и северные границы того ареала, в пределах которого бытует описываемая нами традиция. Гайнский район остается малоисследованным, между тем с ним связаны сюжеты преданий о самом известном коми-пермяцком богатыре – Пере. Достоверным источником, представляющим традицию лупьинских пермяков, является сборник, составленный Д.И.Гусе-вым [Коми-пермяцкие народные предания 1956]; опубликованы и некоторые современные записи [Подюков 2008]. В обоих случаях собиратели ставили целью зафиксировать предания как таковые, вне их связи с сакральным ландшафтом, однако в текстах содержится ряд деталей, сближающих лупьинского героя с персонажами ко-чёвско-косинского ареала. Так, Пера тоже назван «богатырем», иногда – «чудским»; от его имени якобы производятся названия населенных пунктов (г. Пермь, д. Першина); он скатил в реку большой камень ; его смерть связана с сюжетом самозахоронения; неподалеку от деревни Мэд-горт местные жители показывали его могилу, расположенную на небольшом холме, и т.д11. Разумеется, высказанное предположение нуждается в проверке и может быть подтверждено только путем полевых исследований.
В записанных преданиях кочёские и косинские важ отир не всегда соотносятся с чудью. Самозахоронившиеся «старые люди» нередко выступают как вполне реальные исторические лица (аналогичные случаи известны и в других региональных традициях; см.: [Криничная 1987; Данилко 2007; Чудь в устной традиции 2008; Лимеров 2009]). К примеру, про «мокинских» и «шойнаыбских» рассказывают, что это обычные люди, которые жили очень бедно и предпочли самоубийство смерти от голода. Юкся и Пукся описываются как беглые раскольники: (Юкся и Пукся братья были, в землянках себя похоронили. ...Староверы они были. Староверы – это первые, мы для них были пришлые, как уже мирские, что ли). На сопке Курэг-Кар скрывались разбойники (жидовляна жили тоже, полная шайка) или остатки разбитого войска Емельяна Пугачёва. «Важ-чадзёвских» и «куждорских» некоторые информанты считают «иноверцами», «кержаками», «беглыми крепостными графа Строганова». Своей поливариативностью примечателен комментарий, записанный в южном Юсьвинском районе и относящийся к Городищу в д. Подволошино: Раньше люди жили – раскулаченные, может, или каторжане, или за религию их гнали – они уходили в леса. И сами себя похоронили (ИПФ). Очевидно, что сюжет самозахо-ронения чуди способен контаминировать с более поздними историческими событиями и включать новых персонажей.
Пластичность традиции проявляется и в том, что в круг почитаемых мест входят захоронения, возникшие относительно недавно, на памяти старожилов или их родителей. Такие случаи локальны, но хорошо вписываются в общую схему. Так, в с. Юксеево пожилые жительницы ходили поминать на братскую могилу времен гражданской войны (« В Семик на поминки туда идут, пирог рыбный принесут, бражки, на землю все положат и поминают. Старушки в основном ходят »). Вплоть до недавнего времени некоторым почитанием пользовалось кладбище Курга-найн неподалеку от д. Велтас (ныне не существующей), где в советское время хоронили ссыльных спецпереселенцев: Раньше была деревня Велтас, там переселенцы жили, больше с Минской области. Они от голода умерли почти все. Курганайн это место называтся… Кто от голода-то умирал, их там хоронили, вместе всех. И ходили раньше из Юксеева их поминали старушки. Можно в любую родительскую субботу, но у нас чаще в Семик ходили (КАВ). Юксеевская знахарка-«черешланщица», с которой нам довелось беседовать, объясняет необходимость их поминовения боязнью «мыжи» и, вешая череш-лан, включает Курганайн в перечень других «важ-мест»: А они [спецпереселенцы] теперь мыжу могут наслать. Всем-то, конечно, не могут, а вот если их кто-то знал или видел: может, приходили в дом, что-то поесть просили с голоду, или просто кого-то увидели. Тому мыжу могут дать. Вот старушки наши и ходили [поминать] (ЮМП).
Престольные праздники и водные источники. Помимо троицко-семиковой и семейно- бытовой поминальной обрядности представления о мыже отразились в обрядах, связанных с церковными престольными праздниками. Их описание представлено в литературе довольно полно ([Смирнов 1891:251–255; Климов 2005; Четина 2010: 132–149]), поэтому остановимся только на интересующем нас аспекте. Согласно представлениям коми-пермяков, кроме «важ отир» и умерших родственников, мыжу могут наслать Бог и христианские святые. Однако, перечисляя во время гадания их имена, черешлан-щица называет лишь те, которые известны ей по престольным молебнам или чьи иконы есть в ближайшей церкви, часовне, дома у жителей окрестных деревень12: У меня как-то было. Зубы болят и болят, ой-ой-ой! Никому не верила, сама испытала… Мне одна свешала [черешлан] на лопату, потом и говорит: ”Тебе в Сеполь надо ехать”. В Сеполе икона “Воскресенье”, у одного старика она хранилась. К этой иконе меня и отправила. Я туда подарки уносила: холст, стряпню, рыбный пирог. Пришла к старику, холст сверху на икону повесила, вместе с хозяевами помолились, поели, что принесла, и всё (ПЕА).
В Гаврилов день (26.07) те, кому нужно «платить мыжу», приходят на престольный молебен в д. Бачманово Косинского района и несут к иконе «приклад» – плату за исцеление (в основном домотканые пояса и полотенца). В этой же деревне от мыжи «излечивает» икона Георгия Победоносца, поэтому сюда приезжают и на Егория (06.05): Мыжу лечат, сюда приклад несут. А вот иона у нас есть, икона Егория, ей и несут. Одна старуха жила, дак у неё в доме стоит. Теперь нет её, но хозяева пускают народ-то (КМС). В д. Пеклаыб жители окрестных деревень приходят на Петра и Павла: Если Пётр или Павел мыжу тебе дал – там речка, там молятся 12 июля. Я туда раньше ходила, тогда молятся везде, на улице иконы держат на руках. И вот у кого мыжа – стоят рядом в речке, молятся (ЮМП). В д. Ошово Кочёвского района отмечали Тихонов день (29.06), а жители близлежащего села Б. Коча особенно почитали праздники, связанные со святыми – покровителями скота (день св. Ильи, Флора и Лавра). В эти дни старались войти в реку и постоять так, чтоб вода скрывала то место, которое болит.
Такие молебны, как правило, до сих пор проходят рядом с часовнями или на их месте. Связь часовни, водного источника и захоронения (могилы) хорошо прослеживается в текстах, повествующих о заброшенной ныне Лягай-Мельнице (расположена на берегу р. Сеполька по дороге из с. Кочёво в д. Полызайку): Здесь речушка есть,
Сеполька. Кто-то там жил, может, хотел на берегу церковь построить и не построил. А на том месте могила, тут умерли три девочки: Аксинья, Анастасия и ещё одна, имя не помню. В Петер-лун на этом месте моют всё: руки, ноги, лицо, – чтоб не болели. Наверно, эти три девочки святые были. А место Лягай-мельница называется » (РГВ). От местной старожилки записана другая история о Лягай-Мельнице и появлении часовни: На этом месте нашли икону, унесли её, а она снова на берегу оказалась. Тогда и поставили часовню. На Петер-лун сюда человек по 40– 50 ходили молиться. В этом месте, по слухам, жила раньше пустынница Доменья Бабачевна. Она это место вымолила, и икона тут оказалась. Откуда Доменья пришла сюда, никто не знает. Около мельницы избушка стояла, где мельнику жить. Икону туда занесли, а она снова на берег вернулась. Тогда там часовню и поставили (ИАС). Несмотря на то что приведенные истории ощутимо отличаются друг от друга, са-крализованный комплекс могила – часовня – водный источник представлен в обеих записях.
Участие в престольном молебне для больных мыжей сопровождается омовением в проточной воде из расположенной поблизости реки или ключика; еще полезнее стоять в воде, чтобы она скрывала больное место. Почитание воды и водных источников включается здесь в более широкий мифоритуальный комплекс, связанный с предками; эта связь менее очевидна, чем в случае с «чудскими могильниками», и поэтому практически не отмечается в литературе. Между тем вне этой связи трудно объяснить некоторые факты. В Кочёвском районе широко известен ключик Таркомыс (Таркэ-мыс), расположенный в окрестностях д. Урья; по легенде, он возник на месте часовни, чудесным образом ушедшей «на дно». Однако сакральность его не связана с престольными молебнами, как это можно было бы ожидать. Ключик широко задействован в троицко-семиковой поминальной обрядности: Тут часовня была, она утопилася. Тут ещё ключи были, большие были, болото целое. А этот из берега выходит – Таркомыс. На поминки ходила раньше, когда могла. В Семик-то в четверг, и в воскресенье в Троицу в Таркомыс ходят. …Как-то пожар был в Пелыме – мы молились там [на ключе], чтоб дома не сгорели. Тут вещи оставляют: платки, да ленты, да полотенца, – на ёлки, березы вещают. Монетки бросают. Воду забирают оттуда, вода-то там хорошая, целебная. Мыжа если, я знаю, женщины туда ходили, пироги оставляли, чтоб вылечить... (ЮТА). Поле Таркэ-мыс и расположенную там
«чудскую часовню» как одно из поминальных мест называет Л.С. Грибова. От местных старожилов стало известно, что когда-то здесь было старое кладбище. Связь поля и ключика Тарко-мыс с культом предков становится т.о. более понятной.
Сходные случаи мы обнаружили в южном Кудымкарском районе, где обряд черешлан на сегодняшний день полностью вышел из употребления, мыжу считают разновидностью «порчи», а предания о чуди и «чудских могильниках» встречаются крайне редко. Популярностью пользуется в этих краях источник Проня-ключ возле д. Самково; жители приезжают сюда в Троицу (после посещения кладбища), устраивают поминальный молебен и обед, бросают в источник деньги, умываются «целебной водой», набирают ее «про запас»: На Проню ходят в Троицу... Детей вот лечат, да что, пупыри всякие. Или глаза когда болят13. Поп кудымкарский туда приезжает, освящает (ЗМА). Примечательно наименование источника: обычно такие названия даются по имени первопоселенцев. Об этом свидетельствует и запись, сделанная в д. Самково; она относится к менее известному источнику, пользующемуся узколокальным почитанием. Некоторые жители идут на Тарас-ключ, чтобы вымыть руки, ноги, голову, глаза, если что-нибудь болит: Кто такой Тарас? А он векся был. Векся – это значит первый сюда пришел и стал жить (векся – коми-перм. «вековой, вечный»). Во всех этих случаях посещение водных источников не связывается с излечением мыжи, однако раньше эта связь, по-видимому, существовала. В д. Купрос– Волок Юсьвинского района мы записали лаконичное упоминание о молебнах на реке: В Ку-просе не было церкви до 1937 г. И люди сюда ходили. Здесь недалеко есть речка, Говорюшка называется. И туда ездить надо молиться. Мы ходили из Кырдыма с бабушкой (ИАЯ). Этот и подобные ему тексты кажутся совершенно непонятными, если не видеть в них «осколки» традиции, описанной выше.
Таким образом, представления о мыже и обряд черешлан образуют в традиционной культуре коми-пермяков важный мифоритуальный комплекс, который на сегодняшний день выполняет интегрирующую функцию по отношению к похоронно-поминальной, троицко-семиковой и церковной календарной обрядности. Он также способствует сохранению единого культурного пространства, в частности сакрального ландшафта северных и южных коми-пермяков, в который включены различные объекты почитания: древние «чудские могильники», водные источники, церкви и часовни (в т.ч. не существующие ныне), старинные домашние иконы, заброшенные и действующие кладбища. Не последняя роль принадлежит здесь и НПМ, представляющим собой яркий пример «народного православия».
Perm State University
Список литературы Представления о мыже в народных поминальных молитвах, несказочной прозе и обрядовой практике коми-пермяков (опыт системного описания)
- Грибова Л.С. Культ «древних» у коми-пермяков//VII Междунар. конгресс антрополог. и этнограф. наук. М.: Наука, 1964. С.1-9.
- Грибова Л.С. Пермский звериный стиль (Проблема семантики). М.: Наука, 1975. 148 с.
- Данилко Е.С. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В УСТНЫХ ПРЕДАНИЯХ ЗЮЗДИНСКИХ И ЯЗЬВИНСКИХ КОМИ-ПЕРМЯКОВ
- Зеленин Д.К. К вопросу о русалках (культ покойников, умерших неестественной смертью, у русских и у финнов)//Зеленин Д.К. Избр. тр.: Статьи по духовной культуре. 1901-1913. М.: Индрик, 1994. С.230-298.
- Климов В.В., Чагин Г.Н. Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков. Кудымкар: Коми-перм. кн. изд-во, 2005. 256 с.
- Коми-пермяцкие народные предания о Пере-богатыре/сост. Д.И.Гусев. Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1956. 100 с.
- Королёва С.Ю. «Знающий» в современной коми-пермяцкой деревне//Славянская культура и современный мир: сб. материалов науч. конф. М.: ГРЦРФ, Вып.6. 2004. С.81-91.
- Криничная Н.А. Русская народная историческая проза. Вопросы генезиса и структуры М.: Наука, 1987. 227 с.
- Лимеров П.Ф. Образы чуди в коми фольклоре//Изв. УРГУ. Сер. Гуманитарные науки. Филология. 2009. №1/2(63). С.81-90.
- Мальцев Г.И. Народная медицина коми-пермяков конца XIX -начала XX вв. (Историко-этнографический аспект). Кудымкар: Изд-во «Кудымкарская типография», 2004. 288 с.
- Николаев С.Д. Традиционная обрядовая культура мордвы//Мордва: Очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2004. С.388-445.
- Псалтирь и каноны, чтомые по усопшим: Для мирян/сост. иеродиакон Димитрий (Николаев). М.: Даниловский Благовест, 2002. 506 с.
- Подюков И.А. Предания о Пере-богатыре у лупьинских коми-пермяков: состояние традиции//Рукописные памятники как предпосылки создания национальной письменности: материалы межрегион. науч. конф. Пермь: ПГПУ, 2008. С.196-206.
- Подюков И.А. и др. Усольские древности: сб. трудов и материалов по традиционной культуре русских Усольского района к. XIX -XX в./И.А.Подюков, А.М.Белавин, Н.Б.Крыласова, С.В.Хоробрых, Д.А.Антипов. Усолье: Типогр. купца Тарасова, 2004. 240 с.
- Смирнов И.Н. Вотяки: Историко-этнографический очерк//Изв. общ-ва археол., ист. и этногр. при Императорском Казан. ун-те. Казань, 1890. Т.VIII, вып.2.
- Смирнов И.Н. Пермяки: Историко-этнографический очерк//Изв. общ-ва археол., ист. и этногр. при Императорском Казан. ун-те. Казань, 1891. Т.IX, вып.2.
- Чагин Г.Н., Черных А.В. Народы Прикамья: Очерки этнокультурного развития в XIX-XX вв. Пермь: Типогр. купца Тарасова, 2002. 303 с.
- Четина Е.М., Роготнев И.Ю. Символические реальности Пармы: Очерки традиционной культуры Пермского края/Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 224 с.
- Чудь в устной традиции Архангельского Севера/сост., коммент., указатель Н.В.Дранниковой. Архангельск: Помор. ун-т, 2008. 146 с.
- Чугаева С.В. Праздник «Пестера» (Пестерья) у северных коми-пермяков//Коми-пермяки и финно-угорский мир: материалы III междунар. науч.-практ. конф. Кудымкар, 2007. Т.1. С.359-362.
- Чугаева С.В. Важ важжез касьтылöм -поминание предков на культовых местах коми-пермяков//Сакральная география в славянской и еврейской культурных традициях. М.: Центр «Сэфер», 2008. С.260-271.
- Юсьвинский район. 85 лет. Юбил. изд./сост. О.Данилова. Пермь: Пушка, 2010. 204 с.