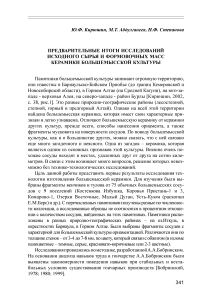Предварительные итоги исследований исходного сырья и формовочных масс керамики большемысской культуры
Автор: Кирюшин Ю.Ф., Абдулганеев М.Т., Степанова Н.Ф.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521210
IDR: 14521210
Текст статьи Предварительные итоги исследований исходного сырья и формовочных масс керамики большемысской культуры
Памятники большемысской культуры занимают огромную территорию, они известны в Барнаульско-Бийском Приобье (до границ Кемеровской и Новосибирской области), в Горном Алтае (на Средней Катуни), на юго-западе - верховья Алея, на северо-западе - район Бурлы [Кирюшин, 2002, с. 38, рис.1]. Это разные природно-географические районы (лесостепной, степной, горный и предгорный Алтай). Однако на всей этой территории найдена большемысская керамика, которая имеет свои характерные признаки и легко узнаваема. Отличают большемысскую керамику от керамики других культур, прежде всего, способы нанесения орнамента, а также фрагменты мусковита на поверхности сосудов. По поводу большемысской культуры, как и о большинстве других, можно сказать, что с ней связано еще много загадочного и неясного. Одна из загадок – керамика, которая является одним из основных признаков этой культуры. Внешне очень похожие сосуды находят в местах, удаленных друг от друга на сотни километров. В связи с этим возникает много вопросов, решение которых невозможно без технико-технологических исследований.
Цель данной работы представить первые результаты исследования технологии изготовления большемысской керамики. Для изучения были выбраны фрагменты венчиков и тулова от 75 обычных большемысских сосудов с 9 поселений (Костенкова Избушка, Коровья Пристань-1 и 3, Комарово-1, Озерки Восточные, Малый Дуган, Усть-Куюм (раскопки Е.М.Берс) и др.). С перечисленных памятников получены разные по численности коллекции, а исследованные образцы не соотносятся в процентном отношении с количеством сосудов, найденных на этих памятниках. Памятники расположены в разных природно-географических районах – на оз.Иткуль, в окрестностях Барнаула, в Горном Алтае. Были выбраны фрагменты сосудов с характерной для большемысской культуры орнаментацией. Различаются они по толщине стенок – от 3-4 до 7-8 мм, по цвету, который связан с обжигом (в изломе одноцветные – темные, серые, красновато-коричневые или 2-3 цветные).
Исследования проводились по методике, разработанной А.А.Бобринским. На основании анализа навыков труда в гончарстве А.А.Бобринским были выявлены закономерности поведения навыков при стабильных и нестабильных условиях существования гончарных производств [Бобринский, 1978; 1980; 1999].
Основная задача сводилась к анализу формовочных масс, чтобы выявить специфику культурных традиций на двух ступенях производственного процесса (отбор исходного сырья и подготовка формовочных масс). В рамках этой задачи рассматривались вопросы выделения культурных традиций в навыках отбора исходного сырья и подготовки формовочных масс; выявления местных и неместных традиций в навыках отбора глины и подготовки формовочных масс; признаки смешения этих традиций. Все образцы исследованы с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10. Изучались свежие изломы и поверхности. Для определения сортности глин все образцы были дополнительно нагреты в окислительной среде в муфельной печи при температуре 850°С. Изучались отличительные черты исходного сырья, использованного при изготовлении посуды, устанавливалась степень ожелезненности глин, характер содержащихся в них примесей, случаи использования одной или двух глин. Анализ формовочных масс включал определение качественного состава минеральных и органических примесей, вводившихся в глину искусственно, их концентрации и размерности.
Изучение исходного сырья показало, что использовались пластичные глины, которые различаются по естественным примесям и по ожелезнен-ности. Предпочтение отдавалась ожелезненным глинам, хотя сосудов из слабоожелезненных глин также достаточно много. Кроме того, в ряде случаев шамот был из слабоожелезненного исходного сырья. На Комарово-1 один сосуд изготовлен из неожелезненной (белой) глины. Анализ исходного сырья показал, что на каждом памятнике использовались глины из нескольких источников, что, возможно, свидетельствует, что происходило не только освоение новых территорий, но к сырью могли предъявляться разные требования.
Из минеральных примесей применяли дресву (искусственно дробленый камень) и шамот. Органика зафиксирована во всех образцах, но, как правило, характер ее трудно определить. В нескольких случаях она была добавлена в формовочные массы в жидком состоянии. По минеральным примесям выделяются рецепты - глина+дресва, глина+дресва+шамот. Преобладает первый рецепт, но он подразделяется на варианты в зависимости от размерности частиц (от 0,5 до 2-3 мм) и их концентрации (от 1:1 до 1:3-4, но преимущественно 1:1-2). Дробили граниты, в которых в большом количестве содержались частицы мусковита. Количество мусковита колеблется, что свидетельствует о том, что использовались разные камни, а сосуды были из разных замесов и изготавливались в разное время, в том числе и с одного памятника. Тем не менее, во всех случаях содержание мусковита достаточно велико. Блестящие частички на поверхности глиняных изделий придавали особую нарядность и являются одним из признаков больше-мысской керамики.
Рецепты, в которых помимо дресвы содержится и шамот, зафиксированы на поселениях Костенкова Избушка, Комарово-1, Малый Дуган, т.е. на всех памятниках, с которых было взято больше 5 образцов. Как правило, в шамоте зафиксирована мелкая дресва. Шамот отличается по ожелезнен-ности от сосудов, в которые он добавлен, и, кроме того, по ожелезненности также подразделяется на ожелезненный и слабоожелезненный. Чистых рецептов с шамотом нет, за исключением двух случаев с Костенковой Избушки, где концентрация дресвы очень незначительна и частицы могли попасть в формовочную массу из шамота, поэтому нельзя утверждать, что в формовочную массу были введены обе добавки, а не только шамот. В остальных фрагментах, где есть шамот, это смешанные рецепты, свидетельствующие о смешении культурных традиций, т.к. дресва и шамот выполняют одинаковую технологическую задачу [Бобринский, 1978, с.90]. Смешение культурных традиций свидетельствует и о смешении населения, т.к. навыки в изготовлении посуды передавались контактным путем [Бобринский, 1978, с.89].
Полученные результаты представляют большой интерес по ряду причин. Одна из них – применение в качестве основной искусственной минеральной добавки дробленого гранита. Известно, что граниты использовали не только большемысские гончары, но нигде это пока не зафиксировано в таком количестве и не было устойчивой традицией. В тех местах, где находятся большемысские поселения Костенкова Избушка, Комарово-1, Коровья Пристань-1 и III, нет поблизости выходов камня. Тем не менее, использование гранитов характерно для большемысцев этого микрорайона (мусковит хорошо виден на поверхности сосудов и без микроскопа, как правило, его определяют как слюду). Большемысцы предпочитали доставлять камень из отдаленных мест для того, чтобы добавлять его в формовочные массы, хотя вместо него могли использовать шамот, свойства которого им были известны. Использование шамота, которое характерно для равнинной местности, оказалось не характерным для большемыссцев с оз.Иткуль. Это свидетельствует об особых традициях, которые больше-мысцы стремились сохранить и на тех территориях, где не было поблизости камня. Возможно, в дальнейшем это наблюдение поможет при решении вопросов происхождения и исторических судеб этой культуры. В данном случае представляют интерес результаты изучения еще одного больше-мысского сосуда с Тузовских Бугров-1. Этот сосуд отличается не только тем, что происходит с памятника значительно удаленного от остальных здесь учтенных, но и тем, что в нем была зафиксирована, добавленная в формовочную массу в большой концентрации, шерсть животного. Эта традиция известна на ряде памятников эпохи неолита и бронзы Горного Алтая, Казахстана и некоторых районов Алтая [Кирюшин Ю.Ф., Степанова, 1998; Шевнина, 2004; Степанова, 2005; Семибратов, Степанова, 2006 и др.]. Однако пока ни разу не была зафиксирована в большемысской керамике. Очевидно, что эта традиция не характерна для большеммыской посуды и может свидетельствовать о контактах населения, скорее всего, большемысского с неолитическим. В настоящее время результаты изуче- ния керамических комплексов большемысской культуры позволяют говорить о неоднородности состава населения, однако какого уровня были эти различия говорить пока преждевременно. Для этого нужны дальнейшие исследования.