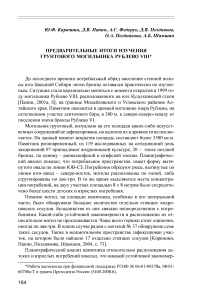Предварительные итоги изучения грунтового могильника Рублево VIII
Автор: Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук А.С., Поздняков Д.В., Позднякова О.А., Шамшин А.Б.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521426
IDR: 14521426
Текст статьи Предварительные итоги изучения грунтового могильника Рублево VIII
До последнего времени погребальный обряд населения степной полосы юга Западной Сибири эпохи бронзы оставался практически не изученным. Ситуация стала кардинально меняться с момента открытия в 1999 году могильника Рублево VIII, расположенного на юге Кулундинской степи [Папин, 2001а, б], на границе Михайловского и Угловского районов Алтайского края. Памятник находится в древней котловине озера Рублево, на остепненном участке ленточного бора, в 300 м. к северо-северо-западу от поселения эпохи бронзы Рублево VI.
Могильник грунтовый, визуально на его площади каких-либо искусственных сооружений не зафиксировано, но наличие их в древности не исключается. На данный момент вскрытая площадь составляет более 3500 кв.м. Памятник разновременный, из 119 исследованных на сегодняшний день захоронений 97 принадлежат андроновской культуре, 20 – эпохе поздней бронзы, по одному – раннескифской и скифской эпохам. Планиграфичес-кий анализ показал, что погребальное пространство, имеет форму вытянутого овала по линии ЮВ-СЗ. Погребения образуют ряды, вытянутые по линии юго-запад – северо-восток, могилы расположены по одной, либо сгруппированы по две-три. В то же время выделяются места концентрации погребений, на двух участках площадью 8 x 8 метров было сосредоточено более шести детских и взрослых погребения.
Помимо могил, на площади памятника, особенно в его центральной части, было обнаружено большое количество отдельно стоящих андро-новских сосудов. Большинство из них связано непосредственно с погребениями. Какой-либо устойчивой закономерности в расположении их относительно могил не прослеживается. Чаще всего горшки стоят одиночно, иногда по два-три. В одном случае рядом с могилой № 37 обнаружено семь таких сосудов. Также в межмогильном пространстве зафиксирован участок, на котором было найдено 17 отдельно стоящих сосудов [Кирюшин, Папин, Позднякова, Шамшин, 2004, с. 73].
Планиграфический анализ памятника относительно расположения детских и взрослых погребений показал, что никакой устойчивой закономер- ности здесь не наблюдалось. Большинство детских могил находятся рядом со взрослыми, либо расположены отдельными группами. Могильные ямы, как правило, имеют прямоугольную, подпрямоугольную форму с ориентировкой: ЗЮЗ-ВСВ, ЮЗЗ-СВВ, ЮЗ-СВ, З-В. Фиксируются остатки деревянных конструкций, установленных на дне ям, а так же остатки обкладки, рамы и фрагменты перекрытия в виде тлена [Кирюшин, Папин, Позднякова, Шамшин, 2004. с.63, 68]
Деревянные конструкции в виде обкладки, рамы или перекрытия встречаются в могилах в 34,4 % случаев. Больше всего внутримогильных конструкций в процентном соотношении приходится на погребения группы молодых – 50 % от количества погребенных в этой группе. Далее следует группа старших – 22,2 %. Почти в стольких же случаях конструкции встречаются в детских погребениях – 20 %. Распределение конструкций по половому признаку примерно одинаково: 33,3 % у мужчин и 36,4% у женщин.
Редко на могильнике встречаются парные и коллективные погребения. Парных могил три (3,4 %), причем в двух случаях, судя по размерам и расположению скоплений кальцинированных костей – это парные взрослые кремации. В одном случае (мог. № 51) удалось определить возраст одного из погребенных и их пол – мужчина maturus и женщина. Третья парная могила – биритуальное детское захоронение. Коллективное погребение одно (1,1 %). Здесь были захоронены ребенок, мужчина и женщина, относящиеся к группе старших. Положение погребенных на правом боку на могильнике встречено всего в двух случаях – 2,2 %. В то же время, следует заметить, что в 70 % случаев, определить положение погребенного не представляется возможным, поскольку анатомический порядок костей скелета был нарушен (как правило, это детские захоронения с плохой сохранностью костей).
По сравнению с другими могильниками Алтая отмечено довольно большое количество погребений с кремациями. В двух случаях кремации были парные. Все погребения, в которых находились кремированные останки, имеют целый ряд сходных черт. Отсутствие в могилах следов огня позволяет предположить, что действия, связанные с обрядом кремации, совершались на стороне, возможно, в специально отведенном месте. В целом, погребения с кремацией по размерам, формам, внутримогильным сооружениям мало чем отличаются от остальных могил. Выделяются погребения, где парные скопления кремированных останков находились в пределах одной деревянной конструкции и разделенные продольной деревянной плахой. В большинстве случаев кальцинированные кости лежали компактно в центре, либо у стенки ямы. В могилу, как и при ингумации, помещался сосуд (один или несколько) в «головах» т.е. ближе к юго-западному краю. Планиграфически данные могилы никак не выделяются, располагаясь в рядах вместе с ингумацией.
Пол или возраст кремированных погребенных на Рублево VIII удалось определить в шести случаях: трое кремированных были женщинами, один мужчина, в одной из парных кремаций находились останки мужчины из группы старших (maturus) и женщина. В двух случаях кремированные погребенные принадлежали к группе молодых. В биритуальном погребении, судя по всему, был кремирован ребенок. Четыре кремации содержали золотые и бронзовые украшения. В одном случае это было погребением мужчины (мог. №93), в остальных пол определен не был. В одном случае это был молодой индивид.
В большинстве случаев в погребениях находился лишь один сосуд (66,3 %). Несколько сосудов было установлено в 16,9 % случаев. В 10,1 % сосуды отсутствуют. Чаще всего несколько сосудов находилось в погребениях группы старших – 33,3 % (здесь и далее учитывались только одиночные захоронения). Значительно реже несколько сосудов встречаются в захоронениях группы молодых (8,3 %) и детей (6,9 %). В женских могилах несколько сосудов встречено в 36,4 % случаев, тогда как в мужских всего лишь в 16,6 %. Наибольшее число безинвентарных погребений было мужскими (33,3 %). Кроме того, единственное на могильнике погребение с четырьмя сосудами принадлежало женщине из группы старших.
Инвентарь, представленный в могилах, находит широкие аналогии в синхронных памятниках Западной Сибири, Казахстана: серьги трубчатые и с раструбом, браслеты, пронизи, желобчатые подвески в полтора оборота, кольца и т.д. Особый интерес вызывает обнаруженное в одной из могил биметаллическое нагрудное украшение вместе с головным убором [Кирюшин, Позднякова, Папин, Шамшин, 2006].
Среди керамических форм андроновского комплекса могильника Руб-лево-VIII выделяется ряд сосудов, для которых характерна высокая, почти прямая шейка и наличие слабовыраженного уступа при переходе от венчика к тулову, в орнаменте в этой зоне расположена специальная неорнамен-тированная полоса. Подобная керамика находит аналогии в комплексах, которые исследователи включают в ареал памятников смешанного ала-кульско-федоровского типа [Корочкова, 2002, с 196, рис. 1, 2; Кузьмина, 1994; Кирюшин, Папин, Позднякова, Шамшин, 2004].
Сохранность костного материала из андроновских погребений не позволяла провести антропометрические исследований каждого скелета по полной программе. Тем не менее, изученный краниологический материал позволяет заключить, что население Кулунды, относящееся к андроновс-кой культуре, заметно отличалось от групп андроновского населения Верхнего Приобья, Восточного Казахстана, Барабинской лесостепи и Минусинской котловины. Для этих районов, в основном, характерны черепа с брахиморфными пропорциями, относимые к так называемому андронов-скому варианту протоевропейского типа. Исследованные нами материалы сближаются с алакульскими популяциями Казахстана. Для них характерна долихокрания в сочетании с узким и резко профилированным лицом.
Наиболее распространенными заболеваниями, отмеченными в данной серии, можно считать болезни суставов. Артрозы и артриты, в неко- торых случаях, в достаточно резкой форме. Подобного рода изменения зафиксированы, в основном, у мужчин. Причем пораженным оказывался чаще всего позвоночник. Данные изменения, как правило, сопровождаются значительным развитием мышц плечевого пояса. Помимо этого в серии отмечено несколько случаев периостита неясной этимологии. В исследованной выборке, на нескольких детских скелетах, отмечены последствия рахита (?) в виде поротического гиперостоза, локализованного на верхних стенках орбит (Cribra orbitale) и деформации длинных костей нижних конечностей.
Погребения, датируемые эпохой поздней бронзы, локализовались преимущественно в южной и западной частях раскопа, хотя отдельно стоящие сосуды встречены практически на всей его площади. В двух случаях зафиксированы факты перекрывания андроновских могил позднебронзовыми. Обращает на себя внимание разряженность в расположении позднебронзовых захоронений, расстояние между которыми варьирует в пределах от 5 до 15 м. Погребения совершены в одиночных могилах и по обряду трупоположения. Все погребения на 0,2-0,5 м углублены в материк. Форма могильных пятен прямоугольная, либо подовальная, причем последняя более характерна для погребений взрослых. Могильные ямы ориентированы длинной осью по линии С-Ю, либо ЮЗ-СВ. Как правило, положение погребенных устанавливается как скорченное на правом (чаще) или левом боку, головой на Ю или ЮЗ, в зависимости от ориентировки могильных ям. Инвентарь в основном представлен керамикой и бронзовыми серьгами. Целый комплекс бронзовых предметов был обнаружен в могиле 55: головные украшения, принадлежности одежды, украшения для рук, зеркало [Кирюшин, Папин, Позднякова, Шамшин, 2004]. В западном секторе были обнаружены два погребения, где умершие были уложены вытянуто на спине головой на Ю, но сопровождаемые традиционными позднебронзовыми сосудами.
Материалы переходного времени от бронзы к железу представлены одним погребением, совершенным на уровне древнего горизонта. Скорее всего, «приклад» найденный в первый год исследования связан с этой могилой. Не исключено, что ряд одиночных «позднебронзовых» погребений, также возможно рассматривать в рамках переходного периода [Папин, 2000]. Скифское погребение было совершенно в глубокой яме и ограблено еще в древности: in situ сохранилась только нижняя часть скелета, под левой большой берцовой костью лежали нож и оселок [Фролов, Папин, 2004]
Таким образом, на грунтовом могильнике Рублево VIII выделено четыре культурно-хронологических горизонта: период развитой бронзы, эпоха поздней бронзы, раннескифское и скифское время. Основой некрополя является андроновская планировочная сетка. По всей видимости, в эпоху поздней бронзы какие-то сооружения еще являлись ориентиром при совершении погребального обряда нового населения. По фрагментам дере- вянных внутримогильных андроновских конструкций были продатирова-ны четыре погребения в промежутке 1635±65 – 1330±75 гг. до н.э. (СОАН 6775-6780) [Кирюшин, Грушин, Папин, 2007]. Несмотря на немногочисленность позднебронзовых материалов, они впервые позволили реконструировать погребальный обряд эпохи поздней бронзы для степной полосы юга Западной Сибири. Важным является тот факт, что погребальные комплексы имеют четкие керамические параллели в конкретных поселениях Рублевского археологического микрорайона [Папин, 2006].