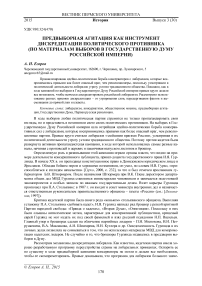Предвыборная агитация как инструмент дискредитации политического противника (по материалам выборов в Государственную Думу Российской империи)
Автор: Егоров А.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Театр власти: политика как символическая практика
Статья в выпуске: 3 (30), 2015 года.
Бесплатный доступ
Проанализирована идейно-политическая борьба консерваторов с либералами, которые воспринимались правыми как более опасный враг, чем революционеры, поскольку усматривали в политической деятельности либералов угрозу устоям традиционного общества. Показано, как в ходе кампаний по выборам в Государственную Думу Российской империи правые круги делали все возможное, чтобы всячески дискредитировать российский либерализм. Рассмотрено использование разных приемов дискредитации - от утрирования слов, передергивания фактов и высмеивания до прямой лжи и клеветы.
Либерализм, консерватизм, общественное мнение, предвыборная агитация, государственная дума, первая русская революция
Короткий адрес: https://sciup.org/147203654
IDR: 147203654 | УДК: 930:324(470)
Текст научной статьи Предвыборная агитация как инструмент дискредитации политического противника (по материалам выборов в Государственную Думу Российской империи)
В ходе выборов любая политическая партия стремится не только пропагандировать свои взгляды, но и представить в негативном свете своих политических противников. На выборах в Государственную Думу Российской империи шла острейшая идейно-политическая борьба консервативных сил с либералами, которые воспринимались правыми как более опасный враг, чем революционные партии. Правые круги считали либералов «злейшими врагами России», усматривая в их политической деятельности угрозу устоям традиционного общества. Поэтому против кадетов была развернута активная пропагандистская кампания, в ходе которой использовались самые разные каналы, начиная с проповедей в церквях и заканчивая выпуском листовок и брошюр.
Определенную роль в развязывании этой кампании играли органы власти, что видно на примере деятельности консервативного публициста, приват-доцента государственного права И.Я. Гур-лянда. В начале ХХ в. он преподавал конституционное право в Демидовском юридическом лицее в Ярославле. Обладая бойким пером и хорошими познаниями, он умел, по словам И.В. Гурко, «приспособляться к взглядам начальства» [ Гурко , 2000, с. 232], за что и был отмечен ярославским губернатором Б.В. Штюрмером. После назначения Штюрмера при В.К. Плеве директором департамента общих дел МВД Гурлянд становится министерским чиновником и занимается подготовкой законопроектов и особых записок по важным государственным делам. Взлет карьеры Гурлянда произошел при П.А. Столыпине: в 1907 г. он входит в совет министра внутренних дел и назначается ответственным руководителем правительственного официоза – газеты «Россия» (см.: [ Лихоманов , 1997]).
Критика кадетской партии была своего рода «коньком» столыпинского официоза. Выполняя установку П.А. Столыпина «добивать кадет», И.Я. Гурлянд написал ряд брошюр с резкой критикой Партии народной свободы: «Правда о кадетах», «Вторая Дума», «Оппозиция». Поскольку в них были слышны антисемитские нотки, характерные для консервативной публицистики, крещеный еврей Гурлянд не мог издать их под своей фамилией и взял русский псевдоним Н.П. Васильев. Главный упор в брошюрах сделан на обличение партийных лидеров – П.Н. Милюкова, И.И. Пет-рункевича, В.А. Маклакова, А.И. Шингарева, Н.Н. Кутлера и др. Осведомленность Гурлянда в их личных делах позволяла не сомневаться в том, что он использовал материалы МВД для компрометации кадетских лидеров. Не случайно и то, что брошюры Гурлянда издавались в преддверии выборов в Думу.
Рассмотрим механизмы дискредитации либералов. Как известно, кадетская партия имела хорошо разработанную программу переустройства страны на либеральных принципах. Оспорить ее по существу в ходе предвыборной кампании консерваторы не могли и делали все необходимое, чтобы ее скомпрометировать. Правые доказывали, что программа для либералов большого значе-
ния не имеет, а нужна им лишь как средство возбудить недовольство существующим строем с целью произвести государственный переворот. «Ряд лет, – писал И.Я. Гурлянд, – неустанно, изо дня в день, в общественное сознание внедрялось сознание, имевшее всегда одну и ту же цель: возбуждать недоверие к правительству, как к строю, знаменующему собою произвол и бесправие, и вселить стремление к свободе. К какой? К свободе вообще. О частностях не думали, а когда начинали подходить к ним, то ничего, кроме общерадикального вздора, придумать, конечно, не могли. И путем земства, и путем прессы, и путем университетского преподавания старательно создавалась та атмосфера недовольства и раздражения, которая должна была привести прежде всего к двум следствиям: к «переоценке ценностей», т.е. к отказу от всего, что так или иначе отдавало традицией, привычкой, а, следовательно, мешало вкоренению новых начал; во-вторых, к естественной уверенности, что на смену старого порядка уже готов новый; во всяком случае, что уже определились лица, которые лучше других могли бы осуществить новый порядок» [ Васильев , 1912, с. 22].
Мероприятия, предлагаемые кадетами для будущего переустройства России, правые трактовали как происки врагов, главным образом евреев, желающих любой ценой уничтожить Россию и создать на ее развалинах собственное господство. В обращении Русского Собрания и Союза русского народа говорилось: «Программы партий народной свободы, Союза 17 октября и новой «Мирного Обновления» родственны между собою и разнятся лишь в частностях: они все не русско-национальные и интересы евреев им дороже интересов русского населения» [Правые партии…, 1998, с. 295].
Главное для кадетской партии, по мнению консерваторов, это тактика, которая должна привести их к власти. Все остальное – неважно. При таком подходе кадеты из идейных борцов за демократию и права человека превращались в глазах избирателей в заурядных политиканов, готовых на все ради власти: «Речь идет не о свободе как начале гражданственности, – полагал И.Я. Гурлянд, ‒ а о свободе как средстве осуществить задуманный общий политический переворот. Сначала переворот – говорит "оппозиция" в кавычках, а затем займемся реальной жизнью. Впрочем, и тут она только лжет: переворот ей нужен вовсе не для того, чтобы потом чем-либо действительно заняться. Переворот нужен как единственный путь, который мог бы привести к власти» [ Васильев , 1910, с. 45].
Важнейшая цель предвыборной агитации – показать несостоятельность политических противников как личностей. Так, правые отмечали, что Партия народной свободы состоит из трех частей: правых, левых и центра. Правое крыло охватывало средние городские слои, часть купечества, приказчиков. И.Я. Гурлянд писал: «Сюда входят: служащие в банках, страховых обществах, комиссионных и иных конторах, особенно, если знакомые студенты успели поколебать в них веру в существующий порядок, а отсутствие политического развития сбивает в одну кучу стремления к лучшим условиям жизни и скорбь о том, что у нас нет республики. Сюда же входят и чиновники разных ведомств, зачисляющие себя в оппозицию из нерасположения к своему ближайшему начальству, из-за уменьшения порции праздничных наградных, из-за неполученного места, на которое имелись расчеты… Словом, все это крыло было бы правильнее назвать оппозицией по необходимости, в силу ряда нелепостей русской действительности… Это не политическая группа в смысле объединения на почве именно данной, а не какой-либо другой политической программы. Это просто группа людей практических чаяний» [ Васильев , 1912, с. 4]. Главная мысль его проста – в либеральное движение люди идут не по объективным причинам, не из-за стремления к свободе и правовому строю, а в силу каких-то личных амбиций, обид на начальство, а то и просто собственной глупости. Кадеты предлагают этим людям всяческие блага, но в отличие от левых партий не требуют заниматься революцией.
Другое дело левое крыло партии. Это, по мнению консерваторов, чистые революционеры: «Оно состоит из людей воспламененных, из людей в такой мере ненавидящих существующее правительство, что, когда они говорят о нем, глаза их принимают рубиновый оттенок, лица искажаются, а некоторых даже начинает как бы подергивать» [Васильев, 1912, с. 11]. Разумеется, подавляющее большинство этой группы – инородцы, и прежде всего, конечно, евреи. И.Я. Гурлянд утверждал: «Левое крыло – это та агентура, при помощи которой кадетский центр нащупывает свои шансы в революционном подполье и при помощи которой, с другой стороны, делает свои наиболее бешеные атаки на уравновешенную часть общества… Начинаясь у точки, которую можно назвать строго конституционной, кадетская боевая линия развернулась вплоть до того тупого угла, где со- средоточились шайки политических убийц и грабителей… Исторически этот фронт строился не справа налево, а слева направо, и корни партии, и основные ее центры вышли из тьмы революционного подполья» [Васильев, 1912, с. 15].
Справа в кадетской партии, по мнению консерваторов, находились амбициозные деятели, обиженные на власть, слева – инородцы из среды революционеров. А кто же в центре? Ответ И.Я. Гурлянда простой: «Центральная группа партии – лицемеры, политические мошенники, люди, обратившие ложь, подлоги, клевету и плутовство в основной прием своей политической деятельности» [ Васильев , 1912, с. 18]. Подобную универсальную формулу можно было использовать для дискредитации любой политической партии. Свалить все на евреев в данном случае было невозможно, поскольку в руководстве кадетской партии их было очень немного, преобладали русские. Консерваторы их называли «волками в овечьей шкуре» и дискредитировали хорошо известными приемами: Департамент полиции представлял компрометирующие материалы на либеральных лидеров, а правая пресса их раздувала. Так, И.И. Петрункевича обвиняли в том, что он по женской линии потомок гетмана Мазепы, а значит, как и Мазепа, изменник России. В.Д. Набокова упрекали в богатстве, заявляя, что одна его жилетка дороже, чем гардероб двух трудовиков. Общим лейтмотивом правой пропаганды было утверждение о том, что лидеры кадетской партии хотят только одного – власти, министерских портфелей – и ради этого готовы пойти на все.
В предвыборных воззваниях черносотенцы призывали избирателей не голосовать за кадетов, поскольку их победа будет означать приход к власти революционеров, стремящихся погубить Россию. В листовке Союза русского народа утверждалось: «Из всех партий самый опасный враг России Конституционно-демократическая партия, в основу которой положено: созвать вместо Государственной Думы Учредительное собрание, т.е. новое правительство, и долой Царя и разделить Россию на части по народностям! В эту партию входят все революционеры, которые после Московского поражения решили проводить своих членов в Государственную Думу… Всем известно, что эта партия вошла в союз с революционерами финляндцами, армянами, поляками, латышами, не говоря уже о жидовском Бунде» [Правые партии…, 1998, с. 168]. Доставалось в листовке и правым либералам – октябристам и близким к ним партиям: «Эти партии хотят, чтобы Государь и его святыня, Русское воинство, присягнули Государственной Думе и признали бы над собой ее власть!!! Такой Думе, где будут заседать, наряду с русскими, и жиды, и поляки, и вообще все инородцы! Русские – подумайте – что с вами будет, если случиться, что большинство голосов в такой Думе будет на стороне инородцев!!! Ведь их будет немало; их подкрепят и русские из породы изменников! Что будет с нами, когда законы нам будут писать жиды и по-свойски начнут приводить их в порядок!» [Правые партии…, 1998, с. 169].
Правые стремились показать оторванность кадетов от реальной жизни, их неспособность к серьезной государственной работе . «В Думе нет государственного смысла и государственного мужества. В Думе нет ни одного государственного ума и ни одного государственного характера. Вот в чем беда. Все думские партии и все партийные лидеры суть общественные деятели, «земцы» в лучшем смысле, но не лица правительственные, которым можно было бы вверить правительство», – писал В.В. Розанов [ Розанов , 2003, с. 203].
Большие усилия правые направляли на развенчание натуры либералов, их моральных качеств. Кадеты показывались как двуличные типы, которые «говорят о меньшем брате… сами же, однако не брезгуют из мужицких крох собирать добро в свои житницы и по мере умения пристроиться кто к казенному, кто к общественному, а кто и к настоящему дарохранилищу. Одни сидят на казенных хлебах, другие собирают дань в виде крупных окладов с земств и городов, третьи берут инженерные жалованья в качестве управителей и управляющих и за счет непосредственных производителей фабриката, четвертые взимают доброхотные даяния в виде гонораров, освобождая обывательские карманы, пятые кормятся и богатеют от торговли и т.д. Все эти люди – одного поля ягода, и напрасно они исключают себя из среды тех, кого они же сами называют эксплуататорами и мироедами» (цит. по [ Нарский , 1994, с. 64]).
В обращении Русского Собрания и Союза русского народа так говорилось о кадетской партии: «…двойственная и лицемерная, не стесняющаяся неопрятностью своих приемов, эта партия рукоплескала и помогала всему, что подрывало честь, силу и благосостояние русского народа. Она радовалась нашим военным неудачам и позору русской военной славы, подрывала кредит России за границей, заставляла русский народ переплачивать ежегодно многие миллионы» [Правые пар- тии…, 1998, с. 295].
Отличительной чертой агитационных кампаний правых сил была опора на эмоциональность. Не имея возможности дискутировать с либералами по существу, правые обращались к чувствам избирателей. Для этого нужно было упростить все разнообразие политической жизни до чернобелых тонов, показать, что на выборах сошлись две силы – добра и зла. Отсюда и важнейший тезис консерваторов о борьбе двух противоположных сил – правых, под которыми понимались все патриоты и монархисты, и левых, антирусских. В.М. Пуришкевич говорил, что в стране в данный момент борются два миросозерцания – левое, идущее от Партии народной свободы, и правое, возглавляемое Объединенным дворянством [Объединенное дворянство…, 2002, с. 124]. Правый публицист «Русского вестника» писал в 1906 г. о расколе страны на два лагеря. С одной стороны, «″Черная сотня″, русский народ, попавший в положение ″партии″ в своей стране. С другой стороны, ″Красная сотня″, они же, ″шабесгои″. Под видом освобождения служат гибели России» (Русский вестник, 1906, кн. 9, с. 777). «Уфимские губернские ведомости» сообщали своим читателям о наличии в России лишь двух партий: революционной и монархической, «так как конституционная партия, по мнению газеты, в сущности, являлась партией революционною, совершенно игнорируя самодержавную власть» (Уфимские губернские ведомости, 1906, 30 апр.).
В кризисной ситуации правым нужно было найти виновных во всех бедствиях, постигших Россию, показать избирателям, откуда исходит все зло, указать на бесчисленных внешних и внутренних врагов, осаждающих Россию: «чиновников-заправил», «анархистов», «изменников», социалистов, революционеров, евреев, конституционалистов, демократов, масонов, «милюковцев и жидов», «жидовствующих». В этом плане показательны слова князя С.Н. Трубецкого, сказанные на приеме делегации земских и городских деятелей у Николая II в июне 1905 г.: «Русский народ не утратил патриотизма, не утратил веры в царя и в несокрушимое могущество России, но именно поэтому он не может уразуметь наши неудачи, нашу внутреннюю неурядицу; он чувствует себя обманутым и в нем зарождается мысль, что обманывают царя… Страшное слово ″измена″ произнесено, и народ ищет изменника решительно во всех: и в генералах, и в советчиках Ваших, и в нас, и во всех "господах" вообще. Это чувство с разных сторон эксплуатируется. Одни натравливают народ на помещиков, другие – на учителей, земских врачей, на образованные классы. Одни части населения возбуждаются против других. Ненависть неумолимая и жестокая, накопившаяся веками обид и утеснений, обостряемая нуждой и горем, бесправием и тяжкими экономическими условиями, подымается и растет, и она тем опаснее, что вначале облекается в патриотические формы – тем более она заразительна, тем легче она зажигает массы» [Выборы в I–IV Государственные думы…, 2008, с. 829].
Листовки и статьи правых о кадетах носили резко критический характер, отличались экспрессивностью и вызывающе непримиримым тоном. Неприятие либералов сквозило в самой стилистике текстов консерваторов. Так, М.О. Меньшиков использовал по отношению к П.Н. Милюкову такие выражения, как «надутая важность», «надутый кадет», «глубокое невежество», «феноменальная ограниченность», «плохой ученый», «либеральная благоглупость» [ Меньшиков , 2012, с. 183–185]. В.М. Пуришкевич так характеризовал лидера Партия народной свободы в 1909 г.: «Милюков – эта накипь русской жизни, эта муть ее, имя коего давно стало бранным словом в России, синонимом духовной проституции, измены Отечеству и рабского подчинения воле еврейского кагала» [Правые партии…, 1998, с. 448].
В черносотенной печати кадеты изображались «лживыми честолюбцами» и «низкопробными демагогами», которые увлекаются «юношескими бреднями» и «грабительская» программа которых рассчитана на обман. Кадеты назывались «радикалами», «языкоблудами», упражняющимися в своем словоизвержении на одну и ту же тему о белом бычке [ Аверенкова , 2006, с. 137]. В статье «Агитация кадетов» читателю был представлен образ кадетского оратора Ф.И. Родичева – «грязного демагога с отвратительными манерами клоуна». Автор ее писал: «Мне было стыдно за русских людей, которые аплодировали маленькому тверскому Марату. Речь его была одним сплошным набором искусственно-страстной лжи… Мне было больно за эту толпу, которая рукоплескала наглости, лжи и скудоумию. Эта толпа не знает, каких волков поднимает она на своих плечах к кормилу правления и как дорого она заплатит за свою наивность. Что касается заправил кадетской партии, то все они типично еврейские лица. Все бюро чернеет от обилия их единомышленников» (Пермский вестник. 1906. 2 апр.).
Правые не стеснялись в выражениях. В 1906 г. в «Вестнике партии народной свободы» были опубликованы слова видного октябриста А.А. Столыпина (брата премьер-министра) о кадетах: «Шайкой я называю кадетскую партию, потому что у нее нет признаков политической партии, руководствующейся твердыми, громко провозглашенными принципами, но у нее налицо все признаки шайки, объединенной грабительскими целями, участники которой прикидываются мирными, безобидными в общежитии, но не останавливаются в своей деятельности ни перед широко организованным обманом, ни перед безжалостным душегубством, когда того требуют обстоятельства» (Вестник партии народной свободы, 1906, № 36, с. 1935).
Кадеты обвинялись в измене интересам страны и в связях с евреями и прочими инородцами. Газеты были полны разного рода соответствующих стихотворений и эпиграмм:
Вы «черной сотней» нас зовете;
А вам эмблемой служит «жид», – Мы – за Царя! Вы – за «Еврея»… За Церковь мы! Вы – за «кагал»!.. Пред «Поляком» вы «падам до ног»! Чуть «инородец» – вы рабы… И каждый, кто для Руси ворог, – Пред тем – на задних лапках вы… А Русь, что деды «собирали», Раздать вы рады по клокам… (Голос народа, 1906, 14 июня).
В воззвании Всесословного народного союза «Кого не следует выбирать» либеральные земцы были названы особо опасными, так как, считая себя «представителями русского народа», они на самом деле решили покончить с Россией, разорвать ее на части, отдать все окраины иноверцам и инородцам (Голос народа. 1906. 19 марта). В июле 1906 г. на заседании общего собрания Союза русского народа была составлена телеграмма царю, в которой указывали на виновников творившегося в стране – кадетов – и настоятельно просили царя ввести военную диктатуру. «Все наши бедствия, – говорилось в телеграмме, – объясняются захватом преобладающего в стране влияния этой партией с ее атрофированными русскими чувствами, с ее антинациональными политическими воззрениями. В то время как русские люди умирали, те, которых потом прозвали кадетами, устраивали забастовки и подготовляли революцию. От людей же, способствовавших проигрышу в войне, отечество пользы ожидать не может» (ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 337. Л. 5). Особо подчеркивалось негативное отношение либералов к патриотизму и христианской морали.
В предвыборной агитации широко использовались антисемитские мотивы. Кадет В.А. Оболенский вспоминал, как черносотенцы в дни выборов в Думу первого созыва вели антисемитскую агитацию, распространяя про него следующее стихотворение:
Если ты прохвост вселенский, Враг России, подлый жид, То конечно Оболенский
Ближе всех к тебе лежит [ Оболенский , 1988, с. 324].
В правой прессе шаржированный образ кадета имел следующий вид: Губы сжаты, уши веером, Нос горбом, сомнений нет, -Не еврей, хотя и с «Меером»?
Убежденьями – кадет (Знамя, 1907, 4 апр.).
В эпиграмме И. Гессену говорилось: Ума пол-унции, порядочности грош, Зовут Иосифом, но рылом не похож… Язык блудлив и жидом пахнет речь. Читатель, я хочу тебя предостеречь От лужи грязной и зловонной (цит. по [ Аверенкова , 2006, с. 134]).
Во время выборов в Думу второго созыва широко использовался образ кадета как «бандита с большой дороги», опаснейшего преступника, несущего угрозу всему государству Российскому:
…Не боится горьких истин Краснофлажник-лизоблюд; Чужд и даже ненавистен Для него российский люд. …Эх, вы, милые кадеты, Слуги верные жидов!
В шкуру овчию одеты Стаи хищные волков. Говорите много вздора, Позабыли всякий стыд… И грабителя и вора Этикет кадетский чтит. Безобразна шайка эта, Левых партий всякий сброд. От бомбиста и кадета Сторонись честной народ (Скворец, 1906, № 16).
О том, какое влияние оказывал образ либерала-еврея на малограмотные народные массы в ходе думских избирательных кампаний, писал в своих воспоминаниях В.Г. Короленко: «Во время самых выборов, когда стали вызывать к ящикам, была выкрикнута еврейская фамилия... Я почувствовал, что кто-то толкнул меня в бок. Рядом со мной стоял молодой крестьянин, высокий, худой, красивый, но, видимо, сложившийся под тяжестью тяжкого труда с самого детства. Это был казак-хуторянин, представитель самой богатой, но и самой консервативной части населения. На его рябом лице маленькие живые глазки сверкали раздражением, любопытством и почти испугом.
– Жид... Ей-богу, жид. Да разве и ему можно?
Я объяснил, что никто из полноправных обывателей не лишен избирательных прав. Он слушал с недоверием и изумлением. Потом он отошел от меня и стал толкаться среди народа, тыча пальцем в еврея и в меня. И я видел, что его чувства находят отклик среди других. Я невольно думал: что могут дать выборы, где еще столько непонимания, темноты и слепого повиновения» [Выборы в I–IV Государственные думы…, 2008, с. 417].
Аналогичную историю рассказал крестьянин Казанской губернии, учитель церковноприходской школы, трудовик И.Е. Лаврентьев. На выборах в Думу первого созыва кадеты раздавали листки с напечатанными фамилиями кандидатов и воззванием «Партия народной свободы приглашает голосовать за нижепоименованных кандидатов!» Этот невинный сам по себе прием всполошил некоторых из черносотенных выборщиков. Они стали искать Лаврентьева, шедшего по кадетскому списку: «– Где такой-то? – называли они мою фамилию, написанную первой в списке. – Тебя кто выбирал?! Какой ты такой депутат?
– Никакой.
– А зачем тебя здесь пропечатали? Кто это смел? Это жидовская партия… знаешь ли ты это?! – Возьмите и вы напечатайте, кого хотите. Это только предлагают – хотите избирайте, хотите нет…
Говорю так, а они, человека три, вцепились в меня – рвать готовы.
– Жидовский ставленник! – кричат» [Выборы в I–IV Государственные думы…, 2008, с. 272].
В ходе предвыборных кампаний правые ставили под сомнение победу кадетов на первых выборах, считая ее результатом нечистоплотных методов ведения предвыборной борьбы. Член Русского монархического собрания Б.В. Назаревский писал об этих выборах: «Вся эта обстановка напоминает отнюдь не всенародное святое дело, а какое-то громадное торжище, какую-то ярмарку, где торговцы на разные лады выкрикивают свой товар, расхваливают его всячески, стараются заманить покупателя только к себе и отвлечь от соседей. Это базар, и, глядя на происходящее, слыша, как та же Партия народной свободы усиленно восхваляет себя и ожесточенно ругает других, невольно приходишь к заключению, что здесь кто-то кого-то хочет обмануть» [Выборы в I–IV Государственные думы…, 2008, с. 382]. «На многочисленных митингах перед Рождеством минувшего года, – продолжал Назаревский, – ораторы этой партии требовали с пеной у рта, чтобы царь не имел никакой власти, чтобы власть из его рук перешла к народным представителям и чтобы царь был связан по рукам и ногам… Настали выборы – и кадеты круто переменили свой фронт: они ста- ли кричать на всех перекрестках, что первая цель их партии – это единение царя с народом, и на их предвыборных плакатах первыми словами были жирно напечатанные слова ″Царь и народ″. Мы видели, что ″кадеты″ известным насилием над совестью избирателей привлекали голоса на свою сторону – они не погнушались и сознательным обманом, чтобы обеспечить своей партии победу. Они припрятали свою настоящую программу и выставили другую, полную разных громких слов и самых широких обещаний для той же цели – для победы на выборах» [Выборы в I–IV Государственные думы…, 2008, с. 283].
Либералы, как правило, не вступали в полемику с консерваторами, считая это ниже своего достоинства. А.В. Тыркова-Вильямс отмечала, что консервативная пресса «стояла на таком низком уровне, была такая грубая, что полемизировать с ней не приходилось. Вообще грубость была отличительной чертой правых, вплоть до употребления непечатных слов. Конечно, не в газетах, этого цензура не допустила бы, но они рассылали поносительные открытки, полные непристойных ругательств» [ Тыркова-Вильямс , 1988, с. 426]. И.В. Гессен в своих воспоминаниях писал, что словесное состязание с правыми «представлялось дурацкой нелепостью, насмешкой над самим собою и вызывало непреодолимое отвращение» [ Гессен , 1937, с. 259].
Таким образом, в ходе кампаний по выборам в Государственную Думу правые круги делали все возможное, чтобы всячески дискредитировать российский либерализм. При этом использовались самые разные приемы – от утрирования мыслей, передергивания фактов и высмеивания до прямой лжи и клеветы. В общественное сознание упорно внедрялся образ либерала как «злейшего врага России», «беспринципного политикана», стремившегося получить власть любой ценой и уничтожить основы Российского государства. Об уровне полемики говорит фраза одного из лидеров Всероссийского национального союза, графа В.А. Бобринского, касающаяся названия кадетской партии: «Название это совсем не русское; даже произнести его очень трудно русскому человеку и от одного имени его сразу веет чем-то нам чуждым» [ Бобринский , 1906, с. 4].
Список литературы Предвыборная агитация как инструмент дискредитации политического противника (по материалам выборов в Государственную Думу Российской империи)
- Аверенкова Н.В. Образы либерала в уральской печати в период Первой российской революции: дис.. канд. ист. наук. Челябинск, 2006. 210 с
- Бобринский В.А. О конституционалистах-демократах или партии народной свободы. Звенигород, 1906. 18 с
- Васильев Н.П. «Оппозиция». СПб., 1910. 138 с
- Васильев Н.П. Правда о кадетах. СПб., 1912. 88 с
- Выборы в I-IV Государственные думы Российской империи (Воспоминания современников. Материалы и документы)/под ред. А.В. Иванченко. М., 2008. 860 с
- Гессен И.В. В двух веках: Жизненный отчет//Архив русской революции. Берлин, 1937. Т. 22. 424 с
- Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. 809 с
- Лихоманов А.В. Борьба самодержавия за общественное мнение в 1905 -1907 гг. СПб., 1997. 134 с
- Меньшиков М.О. Великорусская идея. М., 2012. Т. 1. 688 с
- Нарский И.В. Революционеры «справа»: черносотенцы на Урале в 1905 -1916 гг. (Материалы к исследованию «русскости»). Екатеринбург, 1994. 127 с
- Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Paris, 1988. 751 с
- Объединенное дворянство: Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 1906 -1916 гг.: в 3 т. М., 2002. Т. 3. 912 с
- Правые партии. 1905 -1917: Документы и материалы: в 2 т. М., 1998. Т. 1. 720 с
- Розанов В.В. Русская государственность и общество. М., 2003. 527 с
- Тыркова-Вильямс А.В. Воспоминания: То, чего больше не будет. М., 1998. 560 с