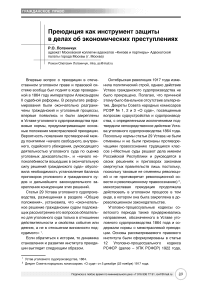Преюдиция как инструмент защиты в делах об экономических преступлениях
Автор: Логвинчук Роман Олегович
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Гражданское право
Статья в выпуске: 3 (234), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена динамики развития института межотраслевой преюдции в российском уголовном праве. Приведены принципы и концепция применения межотраслевой преюдиции, изложенные в судебных актах Конституционного и Верховного судов Российской Федерации. Даны практические рекомендации по усилению линии защиты по уголовным делам экономической направленности.
Межотраслевая преюдиция, преюдиция как инструмент защиты, дела об экономических преступлениях, пределы межотраслевой преюдиции, установление стоимости имущества в порядке преюдиции
Короткий адрес: https://sciup.org/170191292
IDR: 170191292
Текст научной статьи Преюдиция как инструмент защиты в делах об экономических преступлениях
Впервые вопрос о преюдиции в отечественном уголовном праве и правовой системе вообще был поднят в ходе проведенной в 1864 году императором Александром II судебной реформы. В результате реформирования были окончательно разграничены гражданский и уголовный процессы, впервые появились и были закреплены в Уставе уголовного судопроизводства правовые нормы, предусматривающие основные положения межотраслевой преюдиции. Вероятность появления противоречий между понятиями «начало свободного, внутреннего, судейского убеждения, руководящего деятельностью уголовного суда по оценке уголовных доказательств», и «начало непоколебимости вошедших в окончательную силу решений гражданского суда» обусловила необходимость установления баланса приговоров уголовного и гражданского судов и дальнейшего законодательного закрепления конкуренции этих решений.
Статья 29 Устава уголовного судопроизводства, размещенная в разделе «Общие положения», установила, что «окончательное решение гражданским судом подлежащих рассмотрению его вопросов обязательно для уголовного суда только в отношении действительности и свойства события или деяния, а не в отношении виновности подсудимого» 1.
Если обратиться к истории, то динамика становления и развития института преюдиции выглядит следующим образом.
Октябрьская революция 1917 года изменила политический строй, однако действие Устава гражданского судопроизводства не было прекращено. Полагаю, что причиной этому было банальное отсутствие альтернатив. Декреты Совета народных комиссаров РСФР № 1, 2 и 3 «О суде», посвященные вопросам судоустройства и судопроизводства, с определенными исключениями подтвердили непосредственное действие Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Поскольку нормы статьи 29 Устава не были отменены и не были признаны противоречащими правосознанию трудящихся классов («Местные суды решают дела именем Российской Республики и руководятся в своих решениях и приговорах законами свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию) 2, межотраслевая преюдиция продолжала действовать в уголовном процессе в том виде, в котором она была закреплена в дореволюционном законодательстве.
Уголовно-процессуальные кодексы советского периода также придерживались направления, обозначенного в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года и содержали нормы о межотраслевой преюдиции. Основы рассматриваемого правового института были сформулированы в статье 12 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (далее – УПК РСФСР) 1922 года, воспроизведенной впоследствии в статье 12 УПК РСФСР 1923 года, имевшей следующее содержание: «Вступившие в законную силу решения гражданского суда обязательны для уголовного суда только в отношении вопроса, имело ли место событие или деяние, но не в отношении виновности подсудимого».
В УПК РСФСР 1960 года была включена посвященная межотраслевой преюдиции статья 28 «Значение решений и определений суда по гражданским делам для разрешения уголовных дел», согласно которой «вступившее в законную силу решение, определение или постановление суда по гражданскому делу обязательно для суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание, при производстве по уголовному делу, но только по вопросу о том, имело ли место определенное событие или действие, а не в отношении виновности обвиняемого». Как следует из содержания нормы, преюдициальное значение решения по гражданскому делу традиционно стояло на службе у суда уголовного, и только с 1960 года решение суда по гражданскому делу стало обязательным для органов следствия и дознания, а также прокуратуры.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), принятый в 2001 году (вступил в силу 1 июля 2002 года), принципиально изменил подход к институту межотраслевой преюдиции. Закрепляя внутриотраслевую опровержимую преюдицию, статья 90 УПК РФ исключала применение в уголовном процессе межотраслевой преюдиции. В этой статье указывалось на преюдициальное значение лишь таких не вызывающих сомнения фактических обстоятельств, которые ранее были предметом доказывания по уголовному делу и подтверждены вступившим в законную силу приговором, в связи с чем они признавались установленными и не нуждающимися в дополнительной проверке.
Начало современного этапа развития института межотраслевой преюдиции связано с внесением Федеральным законом от 29
декабря 2009 года № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» существенных изменений в рассматриваемую статью УПК РФ. Ее новая редакция установила неопровержимую преюдицию в отношении обстоятельств, установленных вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства. Эти обстоятельства признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.
Принципиальное значение имеет то, что уголовно-процессуальный закон устанавливает ряд категорических запретов на применение норм о преюдициальности. Так, статьей 90 УПК РФ исключены из не требующих доказывания обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, постановленного судом в соответствии со статьями 226.9 (приговор по уголовному делу, дознание по которому проводилось в упрощенной форме), 316 (приговор, постановленный в особом порядке) или 317.7 УПК РФ (приговор в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве).
Следует отметить, что ни статья 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), ни статья 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) указанных ограничений применения норм о преюдиции не содержат.
Уместно будет привести несколько примеров из судебной практики арбитражных судов, дабы продемонстрировать, какие тяжелые последствия в связи с этим возникают.
Федеральный арбитражный суд Московского округа, разрешая кассационную жалобу по делу по иску о солидарном возмеще- нии убытков с К. и Ш. в размере 160 035 967 рублей, в основу судебного акта положил протоколы допросов К. в качестве подозреваемого, заключение МВД России по итогам бухгалтерской судебной экспертизы по уголовному делу № 103289 (вероятно, имелось ввиду заключение бухгалтерско-судебной экспертизы экспертного подразделения МВД России) и протокола ознакомления Ш. и его защитника с материалами уголовного дела (постановление Арбитражного суда Московского округа от 8 февраля 2018 года по делу № А40-13997/17).
Тот же суд, разрешая по существу кассационную жалобу по спору о признании недействительным решения общего собрания, указал, что «наличие вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов, которыми подтверждены правомерность владения Т. и Г., указанным количеством долей, суд первой инстанции не принял во внимание, что в приговоре указано отношение к судебным актам, принятым арбитражным судом. Так, в приговоре указано: «доводы защиты о том, что судебные акты <…> имеют преюдициальное значение, суд оценивает критически» (см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 марта 2016 года по делу № А40-49003/2007). Очевидно, что при наличии судебного акта арбитражного суда уголовный суд нормы о преюдиции не применил, произвольно руководствуясь при этом судейским усмотрением.
К сожалению, перечень случаев весьма спорного применения положений о преюдиции можно продолжить. Такие ситуации представлены, например, в 43 судебных актах Федерального арбитражного суда Московского округа 3.
Конституционно-правовой смысл статьи 90 УПК РФ не раз становился объектом внимания Конституционного Суда Российской Федерации. Так, основополагающим документом является постановление от 21 декабря 2011 года № 30-П (далее – Поста- новление № 30-П), в котором указано, что в качестве единого способа опровержения (преодоления) преюдиции во всех видах судопроизводства должен признаваться пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, к числу оснований которого относится установление приговором суда совершенных при рассмотрении ранее оконченного дела преступлений против правосудия, включая фальсификацию доказательств.
В части 3 статьи 392 ГПК РФ предусмотрена отмена вступившего в законную силу судебного акта в том числе в случае установления вступившим в законную силу приговором суда следующих фактов:
-
• заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта;
-
• преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении дела и повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта (в настоящее время судебная практика по применению этого пункта отсутствует).
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 года № 31 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» разъяснено следующее: «Обстоятельства, <…> установленные определением или постановлением суда, постановлением следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела за истечением срока давности, вследствие акта
Информация размещена в информационной системе «Мой арбитр» (по запросу «статья 90 УПК РФ» от 15 ноября 2020 года).
об амнистии, в связи со смертью обвиняемого или недостижением лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность, также могут служить основанием для пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, если суд признает эти обстоятельства существенными для дела (пункт 1 части 3 статьи 392 ГПК РФ)».
Принципиальные позиции, установленные Постановлением № 30-П, следующие:
-
• бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения; при этом все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном данным Кодексом (УПК РФ – Р.Л. ), толкуются в его пользу, и до полного опровержения его невиновности обвиняемый продолжает считаться невиновным. Таким образом, Конституционный Суд категорично подтвердил, что не отмененный по вновь открывшимся обстоятельствам судебный акт, принятый в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства, является доказательством, опровержение которого иным способом невозможно;
-
• действующие во всех видах судопроизводства общие правила распределения бремени доказывания предусматривают освобождение от доказывания входящих в предмет доказывания обстоятельств, к числу которых процессуальное законодательство относит обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным решением по ранее рассмотренному делу (ст. 90 УПК РФ, ст. 61 ГПК РФ, ст. 69 АПК РФ).
Признание преюдициального значения вступившего в законную силу судебного решения направлено на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов и предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения дела. Имеющими значение для суда будут являться такие обстоятельства, подтверждающие установленные уголовным законом признаки состава преступления, без закрепления которых в законе деяние не может быть признано преступным. Это касается и формы вины как элемента субъективной стороны состава преступления, что при разрешении гражданского дела установлению не подлежит.
На мой взгляд, этой формулировкой Конституционный Суд Российской Федерации оставил огромный простор для «внутреннего убеждения» следователей, которым позволил произвольно определять, имеют факты, установленные судебным актом, значение для находящегося в производстве уголовного дела (или материала проверки) или не имеют. И здесь важно отметить, что следователю оставлена возможность одни обстоятельства из судебного акта признать, а другие произвольно посчитать не имеющими значения для рассматриваемого дела.
Решение по гражданскому делу, возлагающее гражданско-правовую ответственность на определенное лицо, не может приниматься другим судом по уголовному делу как устанавливающее виновность этого лица в совершении уголовно наказуемого деяния и в этом смысле не имеет для уголовного дела преюдициального значения . Пределы применения в уголовном судопроизводстве межотраслевой преюдиции могут быть ограничены признанием без дополнительной проверки данных только о наличии либо об отсутствии какого-либо деяния или события, установленного в порядке гражданского судопроизводства. Квалификация деяния как противоправного и уголовно наказуемого может иметь место только в судопроизводстве по уголовному делу.
В судебной практике отсутствует и позиция высших судов, которая могла бы дать определенный ответ на вопрос, относятся ли к обстоятельствам, не подлежащим оценке, факты, которые в рамках гражданского процесса разрешаются в порядке особого производства, в частности, вопрос дееспособности. Открытым остается вопрос, может ли решение суда об ограничении дееспособности или о признании гражданина недееспособным быть принято в гражданском судопроизводстве в качестве достаточного доказательства невменяемости лица, совершившего общественно опасное деяние.
Теперь о том, почему институт межотраслевой преюдиции не может победить (или не всегда может победить) внутреннее убеждение следователя и стороны обвинения в целом.
Постановление № 30-П оставило для стороны обвинения огромное пространство для маневра, в частности, определив пределы действия преюдициальной силы судебных решений, указав, что выводы суда по уголовному делу не являются предопределенными ранее состоявшимися судебными решениями, принятым в другом виде судопроизводства в иных правовых процедурах.
Также Постановление № 30-П исключило из судебных актов, имеющих преюдициальное значение, судебные акты других судов, если дело по существу не было разрешено или если они касались таких фактов, фигурировавших в гражданском судопроизводстве, которые не являлись предметом рассмотрения и потому не могут быть признаны установленными вынесенным по его результатам судебным актом.
Весьма странно сформулирована гипотеза о возможности переоценки выводов суда, установленных в порядке гражданского судопроизводства при осуществлении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности обвиняемого, которые должны основываться на всей совокупности доказательств по уголовному делу, в том числе на не исследованных ранее при разбирательстве гражданского дела данных, указывающих на подлог или фальсификацию доказательств, – такого рода доказательства исследуются в процедурах, установленных уголовно-процессуальным законом, и могут в дальнейшем повлечь пересмотр гражданского дела. Если допустить, что подлог и фальсификация доказательств установлены вступившим в законную силу приговором суда, тогда все предельно ясно. Но, к сожалению, указанный пункт Постановления № 30-П сформулирован так, что любые гипотезы обвинения о фальсификации доказательств могут быть проверены только в ходе рассмотрения уголовного дела по существу.
В пользу этой же концепции свидетельствует и пункт, предусматривающий, что обстоятельства фальсификации доказательств как уголовно наказуемого деяния не составляют предмета доказывания по гражданскому делу и эти фактические обстоятельства выходят за рамки объективных пределов законной силы судебного решения, вынесенного в гражданском судопроизводстве. Именно факт фальсификации доказательств составляет предмет доказывания по уголовному делу, возбужденному по признакам соответствующего преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.
Несмотря на наличие возможности столь широкого толкования пределов межотраслевой преюдиции, Постановлением № 30-П все же установлен единый способ опровержения (преодоления) преюдиции во всех видах судопроизводства – пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам , к числу оснований которого относится установление приговором суда совершенных при рассмотрении ранее оконченного дела преступлений против правосудия, включая фальсификацию доказательств.
К сожалению, за рамками внимания рассматриваемого постановления остался вопрос, единым способом или единственным является процедура отмены судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, хотя и указано на возможность преодоления.
Отдельно Конституционный Суд обращает внимание на то, что даже подтверждения факта фальсификации доказательств может оказаться недостаточно для пересмотра решения по гражданскому делу, если другие установленные в гражданском процессе данные позволяют признать переход права собственности законным, несмотря на факт фальсификации.
Далее речь о возможностях использования механизмов межотраслевой преюдиции пойдет в контексте защиты по делам о преступлениях против собственности, в частности, по делам о мошенничестве и растратах, где основным квалифицирующим признаком является размер ущерба, а также об установлении способа реализации преступного умысла (обман или злоупотребление доверием).
Сумма ущерба в порядке преюдиции может быть установлена судебными актами в рамках рассмотрения исковых заявлений как при споре о правах, так при рассмотрении исков, вытекающих из ненадлежащего исполнения условий договора и (или) отказа от его исполнения.
Общая концепция фиксации стоимости имущества приобретает принципиальное значение в свете пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее – Постановление Пленума № 48), в соответствии с которым стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, следует определять исходя из его фактической стоимости на момент совершения преступления.
Здесь важно то, что посредством установления в порядке преюдиции стоимости имущества, являющегося предметом судебного спора, возможно с достаточной степенью вероятности опровергнуть гипотезу следствия, а при направлении дела в суд такие разночтения могут служить основанием для возвращения дела прокурору.
В ситуации когда, помимо установления стоимости имущества, необходимо максимально уменьшить вероятность обращения взыскания на имущество, нажитое в период нахождения в браке, может помочь судебная тяжба о разделе совместно нажитого имущества, в ходе которой допустимо как зафиксировать судебным актом объективную стоимость имущества, так и распределить имущество в долевую собственность. Вопрос о разделе совместно нажитого имущества приобретает самостоятельное значение в первую очередь потому, что при наложении ареста на имущество в порядке статьи 115 УПК РФ следствие не обращает внимания на установленный Семейным кодексом Российской Федерации принцип общей совместной собственности супругов на все имущество, приобретенное в браке, а ошибочно определяет единоличного собственника имущества только на основании данных о государственной регистрации права собственности.
Далее, в пункте 30 Постановления Пленума № 48 указано, что при установлении размера похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества. В этом случае у защиты создается пространство для маневра:
-
• первый вариант – идти по пути установления стоимости изъятого имущества на момент его изъятия;
-
• второй вариант – идти по пути установления стоимости имущества, предоставленного взамен изымаемого.
Во всех указанных случаях наличие в мотивировочной части судебного акта сведений о стоимости имущества, установленной на основании заключения экспертизы или специалиста в рамках арбитражного процесса и принятого судом как относимого и допустимого, является эффективным ин- струментом защиты.
Дополнительные возможности защите дают нормы закона о банкротстве и об оспаривании торгов, когда речь идет о хищении посредством замены на менее ценное имущество, в последующем включенное в конкурсную массу.
Из изложенного в пункте 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2005 года № 101 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного производства» следует, что согласно статьям 85 и 86 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) оценка имущества должника проводится судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам, действующим на день исполнения исполнительного документа, за исключением случаев, когда оценка проводится по регулируемым ценам. Если оценка отдельных предметов является затруднительной, то судебный пристав-исполнитель для определения стоимости имущества назначает специалиста. Привлечение к оценке имущества специалиста-оценщика не меняет характера отношений, возникающих в ходе исполнительного производства, в силу которых оценка имущества должника осуществляется судебным приставом-исполнителем. Действия последнего могут быть обжалованы стороной в исполнительном производстве в порядке, установленном статьей 90 Закона об исполнительном производстве.
Таким образом, в случае выставления на торги имущества, которое предварительное следствие посчитало менее ценным, в основу позиции защиты можно положить постановление об оценке, принятое должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в установленном законом порядке.
Именно эти механизмы будут иметь главенствующую роль при защите по делам о мошенничестве в сфере кредитования, когда в основу обвинения положена гипотеза о завышении стоимости залогового имущества.
В пункте 6 Постановления Пленума № 48 указывается, что от хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего действительного или предполагаемого права на это имущество (например если лицо обратило в свою пользу вверенное ему имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не исполненного собственником имущества). При наличии оснований, предусмотренных статьей 330 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), в указанных случаях содеянное образует состав самоуправства.
Из изложенного в этом пункте можно сделать вывод о том, что наличие гражданско-правового спора, как уже оконченного вынесением судебного акта, так и находящегося в производстве соответствующего суда, может быть положено в основу позиции защиты как с точки зрения подтверждения отсутствия умысла как такового, так и в подтверждение отсутствия корыстного мотива.
Существенным подспорьем для обоснования обязательности норм о межотраслевой преюдиции служит определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2012 года № 662-О-Р «Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства Председателя Следственного комитета Российской Федерации о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 30-П». Это определение вынесено по результатам рассмотрения ходатайства Председателя Следственного комитета Российской Федерации, содержащего просьбу о разъяснении правовой позиции, определяющей способ преодоления преюдиции вынесенного по гражданскому делу решения, основанного на сфальсифициро- ванных доказательствах, и допустимости в таких случаях преодоления преюдициальной силы судебного решения, вынесенного в рамках гражданского судопроизводства, в административном порядке при обеспечении последующего судебного контроля этой процедуры.
Конституционный Суд указал, что исчерпывающие разъяснения по указанному в ходатайстве вопросу даны в Постановлении № 30-П, однако посчитал нужным напомнить о следующем: в качестве единого способа опровержения (преодоления) преюдиции во всех видах судопроизводства должен признаваться пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, к числу оснований которого относится установление приговором суда совершенных при рассмотрении ранее оконченного дела преступлений против правосудия, включая фальсификацию доказательств.
Принципиально важно, что преодоление преюдиции связано исключительно с установленным приговором суда совершенным преступлением против прав осудия, что должно исключать преодоление преюдиции приговорами о преступлениях против собственности.
Однако определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2018 года № 78-КГ18-60 установлено, что «то обстоятельство, что действия П. квалифицированы органами предварительного следствия и судом только по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а не по статьям главы 31 данного кодекса «Преступления против правосудия», само по себе не исключает пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам на основании пункта 3 части 3 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Положения данной нормы процессуального закона не ставят возможность пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в зависимость от того, по какой именно статье Уго- ловного кодекса Российской Федерации квалифицировано преступление, совершенное лицом, участвующим в деле, при рассмотрении этого дела судом».
Несмотря на очевидное противоречие в позициях Верховного и Конституционного судов, следует отметить, что сегодня в этой дуэли позиций побеждает непосредственный правоприменитель.
Ярко характеризует динамику ущемления безусловности межотраслевой преюдиции определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июля 2020 года № 1898-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Карамзина Кантемира Феликсовича на нарушение его конституционных прав статьями 90 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Этим определением фактически обнулены все гарантии, которые давали нормы о межотраслевой преюдиции добросовестным участникам гражданского оборота. Так, определением установлено отсутствие обязательности как признания, так и отрицания преюдициального значения окончательных судебных решений, так как «предмет исследования в каждом виде судопроизводства имеет свои особенности, исходя из которых определяются не только компетентный суд, но и специфика процессуальных правил доказывания по соответствующим делам, включая порядок представления и исследования доказательств, а также основания для освобождения от доказывания». Особенный интерес вызывает вопрос об определении «компетентного суда», который, учитывая очевидно карательный характер уголовного судопроизводства, сегодня позволит произвольно относить к компетенции уголовного суда любой экономический спор.
Вопросы безусловного принятия преюдициально установленных фактов также изложены в контексте пределов действия преюдициальности, которые суд посчитал объективно обусловленными тем, что установленные судом в рамках его предмета рассмотрения по делу факты в их правовой сущности могут иметь иное значение в качестве элемента предмета доказывания по другому делу, поскольку предметы доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, а суды в их исследовании ограничены своей компетенцией в рамках конкретного вида судопроизводства. Таким образом, правоприменитель, основываясь на обновленной позиции Конституционного Суда, сможет любое обстоятельство, даже очевидно опровергающее все содержание обвинения или его обязательный элемент, оценивать по своему усмотрению либо не оценивать вовсе.
Подводя итог, Конституционный Суд в определении № 1898-О указал, что «принятые в порядке арбитражного или гражданского судопроизводства и вступившие в законную силу решения судов по арбитражным и гражданским делам не могут расцениваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности обвиняемого, которые должны основываться на всей совокупности доказательств по уголовному делу». Таким образом, даже наличие судебного акта о действительности сделки, равнозначности встречного предоставления, стоимости имущества и (или) имущественных прав может быть предметом повторной оценки судом в порядке уголовного судопроизводства. Внушает оптимизм то, что судейское сообщество склонно с бол ́ ьшим доверием относиться к выводам своих коллег, нежели к доводам обвинения и защиты.
Еще один принципиально важный процессуальный аспект связан с определением подследственности. Законодателем статья 303 УК РФ отнесена к преступлениям против правосудия, а непосредственным объектом определена нормальная (законная) деятельность судов, осуществляющих правосудие по гражданским делам.
В соответствии со статьей 55 ГПК РФ доказательствами по гражданскому делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Следуя логике законодателя, надо признать, что, если в основу судебного акта о признании права на имущество или взыскании сумм положены в качестве доказательств сфальсифицированные доказательства, то такие действия не охватываются квалификацией по статье 159 УК РФ и требуют дополнительной квалификации по части 1 статьи 303 УК РФ.
В соответствии со статьей 151 УПК РФ дела о преступлениях, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 303 УК РФ, подследственны следователям Следственного комитета Российской Федерации. Таким образом, можно сделать вывод о подследственности всех имущественных преступлений, связанных с обращением с подложными документами в суд, исключительно следственным подразделениям Следственного комитета.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ *
-
1. Устав уголовного судопроизводства, 1864. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
2. О суде : Декрет Совета народныхъ ко-миссаровъ от 5 декабря (22 ноября) 1917 года // Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. 1917. № 17. 7 декабря (24 ноября).
-
3. Об Уголовно-процессуальном кодексе : постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета от 25 мая 1922 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
4. Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовно-Процессуальным Кодексом
Р.С.Ф.С.Р.») : постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 15 февраля 1923 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
5. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 года. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».
-
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».
-
7. О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2009 года № 383-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».
-
8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».
-
9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
10. По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 30-П. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».
-
11. О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11
-
12. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
13. Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного производства : информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2005 года № 101. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
14. Об исполнительном производстве : Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
15. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
16. Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства Председателя Следственного комитета Российской Федерации о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 30-П : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2012 года № 662-О-Р. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
17. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2018 года № 78-КГ18-60. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
18. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Карамзина Кантемира Феликсовича на нарушение его конституционных прав статьями 90 и 125 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июля 2020 года № 1898-О. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
декабря 2012 года № 31. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Список литературы Преюдиция как инструмент защиты в делах об экономических преступлениях
- Устав уголовного судопроизводства, 1864. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- О суде : Декрет Совета народныхъ ко-миссаровъ от 5 декабря (22 ноября) 1917 года // Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. 1917. № 17. 7 декабря (24 ноября).
- Об Уголовно-процессуальном кодексе : постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета от 25 мая 1922 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») : постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 15 февраля 1923 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2009 года № 383-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 1 4 ноября 2002 года № 1 38-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 30-П. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 года № 31. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 201 7 года № 48. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного производства : информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2005 года № 101. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Об исполнительном производстве : Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 1 3 июня 1996 года № 63-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства Председателя Следственного комитета Российской Федерации о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 30-П : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2012 года № 662-О-Р. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2018 года № 78-КГ18-60. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Карамзина Кантемира Феликсовича на нарушение его конституционных прав статьями 90 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июля 2020 года № 1898-О. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».