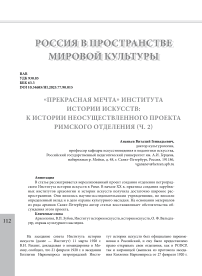«Прекрасная мечта» Института истории искусств: к истории неосуществленного проекта римского отделения (ч. 2)
Автор: Ананьев В.Г.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Россия в пространстве мировой культуры
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается нереализованный проект создания отделения петроградского Института истории искусств в Риме. В начале ХХ в. практика создания зарубежных институтов археологии и истории искусств получила достаточно широкое распространение. Они являлись научно-исследовательскими учреждениями, но вносили определенный вклад и в дело охраны культурного наследия. На основании материалов из ряда архивов Санкт-Петербурга автор статьи восстанавливает обстоятельства обсуждения этого проекта.
Археология, В.П. Зубов, Институт истории искусств, история искусств, О. Ф. Вальдгауер, охрана культурного наследия
Короткий адрес: https://sciup.org/170211042
IDR: 170211042 | УДК: 930.85 | DOI: 10.34685/HI.2025.77.90.015
Текст научной статьи «Прекрасная мечта» Института истории искусств: к истории неосуществленного проекта римского отделения (ч. 2)
На заседание совета Института истории искусств (далее — Институт) 11 марта 1920 г. В.Н. Ракинт, докладывая о командировке в Москву, сообщил, что 21 февраля 1920 г. в заседании Коллегии Наркомпроса петроградский Инсти- тут истории искусств был официально переименован в Российский, и ему было предоставлено право открывать свои отделения, как в РСФСР, так и заграницей (выписка из протокола заседания Коллегии Наркомпроса от 27 февраля 1920 г.
№ 1131)1. Это сообщение было принято членами совета к сведению2. Тогда же были сделаны и первые шаги к реализации разрешенного. Совет одобрил штаты ученых корреспондентов Института из следующего расчета: по одному в Берлине, Вене, Брюсселе, Париже, Лондоне, Мадриде, Нью-Йорке3. В новоутвержденном уставе оговаривалось, что в число основных функций заграничных отделений Института входило «исследование, научное издание памятников искусства и источников, предоставление членам Института и другим русским и иностранным ученым и учащимся всех пособий и средств при их работах на местах и установление связи между русскими и иностранными научными кругами, а также руководство работами лиц, командируемых институтом»4. Предполагалось, что наряду с библиотеками и мастерскими при отделениях могли составляться и историкохудожественные коллекции.
Дальнейшие месяцы, судя по всему, были посвящены активной работе по выработке конкретных оснований деятельности планируемых отделений. Последние требовали консультаций и с родственными Институту учреждениями, параллельно разрабатывавшими сходные планы. В том же 1920 г. при Академии наук (из Императорской ставшей к этому времени Российской) (далее — РАН) начала работу Комиссия по организации русских научных институтов заграницей. Ее работы закончились принятием на Общем собрании РАН 4 сентября 1920 г. «Положения о русских научных институтах заграницей»5. К работе комиссии были привлечены и представители Института (в частности, В.П. Зубов и В.Н. Ракинт)6. Комиссия пришла к мнению о целесообразности создания заграничных исследовательских институтов РАН (каждый с 3 отделениями: 1) гуманитарных наук, 2) естественных наук,
-
3) прикладных наук) в первую очередь в следующих 9 пунктах: 1) Лондоне, 2) Париже, 3) Берлине, 4) Каире, 5) Вашингтоне, 6) Буэнос-Айресе, 7) Мадриде, 8) Пекине и 9) Сиднее. При этом особо оговаривалось, что за Институтом комиссией признавалось преимущественное право на учреждение Художественно-исторического исследовательского отделения в Риме как пункте, где интересы истории искусств преобладают над другими7.
В июне 1920 г. на заседании правления Института был заслушан вопрос о составлении объяснительных записок к проектам нового устава Института, новых штатов, учреждения отделения в Риме, учреждения Комитета по изучению памятников. Составление документов и предоставление их в Наркомпрос поручалось директору Института В.П. Зубову8. И вот 17 августа 1920 г. из Института в Москву было направлено отношение № 1035 следующего содержания:
«В НАУЧНЫЙ СЕКТОР НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ
Российский институт истории искусств представляя при сем проект Положения и Штата Отделения Института в Риме с объяснительной запиской и проект Штата ученых корреспондентов Института заграницей, ходатайствует об утверждении в установленном порядке. Право открывать Отделения в России и заграницей предоставлено Институту постановлением Нар-компроса от 21 февраля 1920 г. (протокол Коллегии Наркомпроса № 17).
РЕКТОР: Зубов
ЗА УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ: Радлов УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ: Отто»9. Отношение сопровождалось несколькими приложениями. Приведем одно из них:
«ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ИСКУССТВ В РИМЕ
(Одобрен советом Института в заседаниях 11 и 19 марта 1920 г.)
-
1. Целью учреждения Отделения РИИИ в Риме является: а) исследование, изучение и издание памятников искусства и материалов по истории искусства в Италии; b) предоставление членам Ин-
- ститута и другим русским и иностранным ученым и учащимся всех пособий и средств при их работах на местах; с) установление в области изучения искусства связи между русскими и иностранными научными кругами и взаимное их осведомление в этой области; d) содействие в пополнении русских собраний и библиотек копиями, слепками, снимками с рукописей и другими воспроизведениями, а также такими оригинальными художественными произведениями, вывоз которых за пределы Италии разрешен законами страны, содействие в пополнении аналогичными объектами итальянских собраний и библиотек.
-
2. Для выполнения указанных в п. 1. задач Отделение производит в своих специальных целях: а) съемки архитектурных памятников, их описание, фотографирование и копирование; b) описание, фотографирование и копирование рукописей; с) то же подвижных памятников искусства; d) то же рукописей и архивного материала; е) формовку пластических произведений; f) организует экспедиции и экскурсии и командирует отдельных своих членов для научных изысканий на местах; g) устраивает научные заседания с докладами и прениями по ним; i) оказывает содействие научным и просветительным экскурсиям, отправляющимся в Италию из России и из Италии в Россию; k) информирует русские научные круги о ходе работ Отделения; l) ведет практические занятия с лицами, командируемыми для научной подготовки.
-
3. Отделение имеет в своем составе три Отдела: I. Отдел древнего искусства, II. Отдел средневекового искусства, III. Отдел нового искусства. Отделы разделяются на следующие секции:
-
I. Отдел древнего искусства.
-
1. Секция. Доисторическое искусство Италии.
-
2. Секция. Греческое и эллинистическое искусство на почве Италии.
-
3. Секция. Итальянское и римское искусство.
-
II. Отдел средневекового искусства.
-
1. Секция. Раннехристианское и варварское искусство Италии.
-
2. Секция. Византийское и романское и готическое искусство в Италии.
-
3. Секция. Арабское искусство в Италии.
-
III. Отдел нового искусства.
-
1. Секция. Искусство Возрождения.
-
2. Секция. Искусство Барокко.
-
3. Искусство XIX века и новейшее итальянское искусство.
-
4. При Отделении состоят: Библиотека с собраниями фотографий, слепков и др. репродукций, художественно-исторические коллекции, библиографическая картотека, фотографическая мастерская, художественная мастерская (для копирования памятников), формовочная мастерская, чертежная и другие вспомогательные учреждения.
-
5. При Отделении могут открываться Подотделы (филиалы) в других городах Италии и учреждаться должности штатных Корреспондентов Отделения.
-
6. Работами Отделения руководит Директор, избираемый Советом Института из числа его членов. Ближайшим его Помощником и заместителем является Ученый Секретарь Отделения, избираемый Советом Института из числа его членов. Заведующие Отделами избираются Советом Института, но не обязательно из числа его членов. Означенные должностные лица избираются сроком на пять лет.
-
7. Штаты и сметы Отделения, равно как ежегодный отчет о деятельности Отделения и план работ на предстоящий год, рассматриваются и утверждаются Советом Института.
-
8. Совет Института утверждает инструкцию, определяющую деятельность Отделения.
-
9. Отделение учреждается на основании особого соглашения между Российским и Итальянским Правительствами»10.
ПРИМЕЧАНИЕ. До открытия Подотделов учреждаются должности Корреспондентов Отделения в следующих городах: во Флоренции, Венеции, Милане, Равенне, Перудже, Неаполе, Бари и Палермо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок замещения всех остальных должностей по Отделению устанавливается Советом Института.
Проект штата предполагал 43 сотрудника в научной части (кроме вышеперечисленных, 9 ассистентов и руководители всех вспомогательных учреждений, а также помощники библиотекаря) и 12 в административно-хозяйственной (машинистки, служители, бухгалтер, делопроизводитель и проч.)11.
Тот факт, что работа над проектом велась весьма обстоятельно подтверждается рядом подгото- вительных документов, отложившихся в архивном фонде Института. Кроме отпуска направленных в Наркомпрос бумаг здесь сохранились первая12, вторая13 и третья редакции Общих оснований14, а также еще одна их машинопись с правкой15.
Машинопись объяснительной записки к проекту содержит правку, внесенную характерным почерком самого В.П. Зубова и имеет в верхнем правом углу надпись простым карандашом: «Единственный экземпляр! Беречь как зеницу ока!», что еще раз демонстрирует, с каким вниманием относились в Институте к этому, казалось бы, утопическому проекту. Приведем этот документ:
«Объяснительная записка к проекту учреждения Российского института истории искусств в Риме и должностей ученых корреспондентов Института в Риме
Те из гуманитарных наук, которые пользуются в качестве необходимого материала для исследования вещественными памятниками, требуют для своего нормального развития непосредственных объектов наблюдения, находясь в этом отношении до некоторой степени в сходных условиях с естественнонаучными дисциплинами. К числу подобных гуманитарных наук, оперирующих над такими явлениями духовной жизни, законы которых извлекаются из анализа вещественного материала, относится наряду с археологией, история искусства, оперирующая, правда, над явлениями духовной жизни, но такими, законы развития которых извлекаются, главным образом, из овеществленного материала — художественных памятников, и притом памятников оригинальных, в то время как репродукции (фотографии, копии, слепки, модели и т.п.), имеющие первостепенное педагогическое значение, для исследовательской работы имеют значение лишь подсобное. Между тем, количество художественных памятников в каждой данной стране, за исключением памятников национальных, исчерпывается ее музейным фондом (объединяя этим термином и частные собрания); таким образом, обширнейшая область произведений иностранного монументального искусства — все архитек- турные памятники и, как общее правило, связанные с архитектурой памятники монументальной живописи и пластики — остаются прикрепленными к той почве, на которой они возникли (такие примеры, как перенос скульптур Парфенона в Лондон или части фасада дворца Мшатты в Берлин являются все же исключением).
В России запас нерусских художественных памятников ограничен, а главное — страдает общеизвестными крупными пробелами, обусловленными, между прочим, и тем, что пополнение нашего главного музея нерусских памятников — Эрмитажа, в значительной степени зависело от личного вкуса императоров. Между тем, и исследование русского искусства при всем обилии материала в силу уже давно вскрытых связей его с искусством других стран не может быть сколько-нибудь научным без самого широкого привлечения иноземных памятников.
Эти соображения делают необходимым в целях возможно полного и планомерного изучения явлений искусства учреждения по примеру основанного в конце прошлого столетия Российского археологического института в Константинополе ряда археологических и художественно-исторических институтов заграницей. К числу вышеприведенных аргументов следует присоединить еще и то соображение, что по состоянию художественноисторических источников, в громадной части своей еще не изданных, пользование ими возможно лишь на местах, в архивах и библиотеках. Такие институты мыслимы или как вполне самостоятельные учреждения (типа константинопольского), или как отделения научных учреждений с центром в России, или же как более или менее автономные части или секции более широких по своим задачам русских заграничных институтов. На каком бы из этих трех типов не остановиться, известная степень самостоятельности в организации и управлении таких институтов (отделений или секций) представлялась бы необходимой в целях наиболее полного и широкого развития исследовательской деятельности, в особенности в таких странах, где художественно-исторический материал является исключительно обширным. Тип самостоятельного заграничного Отделения, сохраняющего связь со своим научным центром в России, представляется наиболее целесообразным и наиболее гибким.
Из числа стран, в которых по мнению Совета Российского института истории искусств открытие таких художественно-исторических институтов, отделений или секций представлялось бы желательным в первую очередь в проекте Института, одобренном Советом для внесения на утверждение соответствующих инстанций, на первом месте стоит Италия. Проектируя исследовательское, с некоторыми педагогическими функциями Отделение Института в Риме и известное количество штатных корреспондентов Отделения в других городах Италии, Институт исходил из той мысли, что и при дальнейшем возможном развитии его исследовательской деятельности ему следует ограничиться странами западноевропейской культуры как ввиду общего направления научно-преподавательской деятельности Института, так и ввиду того, что по мнению Института создание и организация подобных отделений на Востоке и в балканских странах может быть с большим успехом осуществлена средствами и силами других, близких по своим задачам к Институту научных учреждений.
Считая же, что основание одновременно с итальянским отделением таких же отделений в других западноевропейских странах явилось бы трудноосуществимым, Совет Института, которому постановлением Коллегии Наркомпроса от 21 февраля 1920 г. представлено право открывать как иногородние, так и заграничные отделения, постановил на первых порах ограничиться учреждением в столицах главнейших западноевропейских стран и в Северной Америке по одной должности штатного ученого корреспондента Института»16.
И хотя в сентябре 1921 г. Институт получил новый устав, который официально преобразовал его из высшего учебного заведения в «ученое учреждение», «ставящее своей задачей развитие науки истории искусств путем исследовательской работы», и «§ 4-м Устава санкционировано право Института на открытие иногородних и заграничных Отделений и на учреждение должностей Ученых Корреспондентов в России и заграницей»17, «прекрасная мечта» об учреждении отделения в Риме так и осталась мечтой.
Уже в 1921 г. Институту пришлось столкнуться с волной сокращений, которая продолжилась и в 1922 г.18 В 1922 г. был арестован (хотя вскоре и освобожден) директор Института В.П. Зубов, эмигрировал из Советской России ученый секретарь Института В.Н. Ракинт19. В официальном отчете за 1922–1923 гг. все это излагалось с использованием всех возможностей доступной по условиям места и времени риторики. В нем говорилось, что Институт в этот период «вступил в полосу различных затруднений, тем острее им переживавшихся, что они имели место почти все в то время, когда уже уехал в свою продолжительную заграничную командировку Ученый Секретарь Института В.Н. Ракинт, и очень многие из них — когда ( вписано от руки — в стенах) у Института отсутствовал на несколько месяцев ( зачеркнуто, вписано — не было) его председателя — В.П. Зубова»20. Были сильно сокращены штаты (осталось — 47 ставок, из них на научную часть — 28), научная работа «перешла таким образом в значительной мере на бесплатный труд своих работников», продолжались трудности с финансированием, Институт временно оказался без электричества и не был уверен в вопросе об отоплении зимой. В итоге, констатировалось в отчете, Институт устоял, но «пришлось сдать несколько позиций». Среди них — он «вынужден был отказаться за отсутствием средств на ремонт и охрану, от дома в Новгороде, предоставленного ему под Новгородское его Отделение»21. О такой экстравагантности как отделение в Риме никто уже и не вспоминал. Так осталась неосуществленной еще одна «прекрасная мечта» отечественной гуманитарной науки ХХ в.