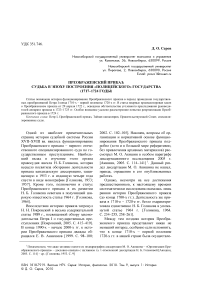Преображенский приказ: судьба в эпоху построения «полицейского» государства (1717-1724 годы)
Автор: Серов Дмитрий Олегович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории функционирования Преображенского приказа в период проведения государственных преобразований Петра I конца 1710-х - первой половины 1720-х гг. В статье впервые проанализирован закон о Преображенском приказе от 29 апреля 1722 г., освещены обстоятельства уголовного преследования руководителей аппарата приказа в 1723-1725 гг. Особое внимание уделено рассмотрению попытки реорганизации Преображенского приказа в 1724 г.
Петр i, преображенский приказ, тайная канцелярия, правительствующий сенат, специализированные суды
Короткий адрес: https://sciup.org/14737212
IDR: 14737212 | УДК: 351.746
Текст научной статьи Преображенский приказ: судьба в эпоху построения «полицейского» государства (1717-1724 годы)
Одной из наиболее примечательных страниц истории судебной системы России XVII–XVIII вв. явилось функционирование Преображенского приказа – первого отечественного специализированного суда по государственным преступлениям. Наибольший вклад в изучение этого органа правосудия внесла Н. Б. Голикова, которая всецело посвятила обозрению деятельности приказа кандидатскую диссертацию, защищенную в 1953 г. и изданную четыре года спустя в виде монографии [Голикова, 1953; 1957]. Кроме того, полномочия и статус Преображенского приказа в их развитии Н. Б. Голикова осветила в получившей широкую известность статье 1964 г. [Голикова, 1964].
Впоследствии историю приказа затронул Н. Н. Покровский в весьма содержательной статье 1989 г., посвященной обзору законодательства Петра I о государственных преступлениях [Покровский, 2005. С. 415–419]. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. к истории Преображенского приказа дважды обращался Е. В. Анисимов [1999. С. 98–100;
2002. С. 102–105]. Наконец, вопросы об организации и нормативной основе функционирования Преображенского приказа подробно (хотя и в большей мере реферативно, без привлечения архивных материалов) рассмотрел М. О. Акишин в особом параграфе диссертационного исследования 2005 г. [Акишин, 2005. С. 114–141] 1. Данный раздел диссертации М. О. Акишина не нашел, правда, отражения в его опубликованных работах.
Однако, несмотря на все достижения предшественников, к настоящему времени систематически исследована оказалась лишь ранняя история Преображенского приказа (до конца 1700-х гг.). Деятельность же приказа в 1710-е – 1720-е гг. бегло охарактеризовала единственно Н. Б. Голикова в упомянутой статье 1964 г. [Голикова, 1964. С. 254–255, 258–261].
Между тем поздняя история Преображенского приказа представляет никак не меньший интерес, особенно если вспомнить, что в конце 1710-х – первой половине 1720-х гг. в нашей стране была осуществле- на невиданная по масштабу реорганизация государственного аппарата (сердцевиной которой стали коллежская, судебная и вторая губернская реформы). Означенный историографический пробел и обусловил появление настоящей статьи. В статье предпринята попытка «в первом приближении» рассмотреть обстоятельства внешней истории Преображенского приказа на протяжении 1717–1724 гг.
Не останавливаясь на этих страницах на вопросе о концепции и политико-правовой основе государственных преобразований конца 1710-х – первой половины 1720-х гг., каковой уже освещался в иных работах [Анисимов, 1997.С. 99–107; Серов, 2007. С. 815–816], следует отметить, что к 1717 г. в качестве стратегической цели данных преобразований Петр I определил построение в России «полицейского» государства ( Poli-zeistaat ) по образцу Швеции. Сообразно этой установке законодателя, Преображенскому приказу не оставалось места в государственном аппарате. Дело в том, что в Шведском королевстве в XVII–XVIII вв. вообще отсутствовал особый орган правосудия по разбирательству дел по государственным преступлениям ( crimina laesae majestatis ), а соответствующие дела направлялись в военные суды [Peterson, 1979. Р. 397–398]. К тому же, как уже было показано ранее [Серов, 2007. С. 819–820], в 1717 г. Петр I замышлял сосредоточить отправление правосудия в стране в проектируемой Юстиц-коллегии и подчиненных ей судах.
Ситуация для упразднения Преображенского приказа сложилась тем более подходящая, что в самый канун начала коллежской и судебной реформ, 17 сентября 1717 г. скончался бессменный глава приказа влиятельнейший Ф. Ю. Ромодановский 2. К этому времени Преображенский приказ располагал компетенцией, почти не изменившейся по сравнению с 1696 г. (когда приказ был наделен исключительными полномочиями по рассмотрению дел по государственным преступлениям). Как явствует из доныне не вводившегося в научный оборот доношения Преображенского приказа
Сенату от 18 сентября 1717 г., в тот момент в круг ведения приказа как органа правосудия входили «великия дела, которые каса-ютца о его царского величества здравии и о высокомонаршей чести и о бунте и о измене, да всяким правом два полка от лейб-гвардии…» 3. Иными словами, Преображенский приказ по-прежнему осуществлял разбирательство, во-первых, дел по государственным преступлениям, а во-вторых, уголовных и гражданских дел, касавшихся военнослужащих гвардейских полков.
О том, что в преддверии развертывания коллежской и судебной реформ Петр I испытал определенные колебания относительно дальнейшей судьбы ведомства из села Преображенского, свидетельствует тот факт, что царь не стал торопиться с назначением нового руководителя приказа. Не менее показательно, что в поданном Петру I в конце ноября – начале декабря 1717 г. докладе о делах Преображенского и Семеновского полков особым пунктом был поставлен вопрос, под чьей юрисдикцией будут впредь находиться солдаты и офицеры гвардии (причем отмечалось, что пребыванием под юрисдикцией Преображенского приказа гвардейцы «были доволны»). Впрочем, уже в резолюции от 5 декабря 1717 г. царь подтвердил подсудность военнослужащих-гвардейцев именно Преображенскому приказу 4. А вскоре, согласно именному указу от 21 февраля 1718 г., у Преображенского приказа появился и новый глава, каковым стал И. Ф. Ромодановский 5, единственный сын покойного «князя-кесаря» Федора Юрьевича (уникальный эпизод в кадровой политике Петра I, когда руководство органом государственной власти было передано по наследству).
Таким образом, следует констатировать, что на практике в сфере политической юстиции Петру I в 1717 г. оказалось совсем не до шведских образцов. Более того: в 1718 г. состоялось учреждение еще одного специализированного суда по государственным преступлениям – Тайной канцелярии (реорганизованной из следственной комиссии по делу царевича Алексея Петровича). Учитывая, что ни в 1718 г., ни впоследствии законодатель не предусмотрел никакой (ни инстанционной, ни организационной) связи между Тайной канцелярией и Преображенским приказом, нельзя не отметить, что в 1718 г. в отечественной судебной системе сложился редчайший (и совершенно несовместимый с идеалом Polizeistaat) параллелизм: рассмотрением дел по государственным преступлениям стали заниматься и Преображенский приказ, и Тайная канцелярия 6. Что касается разграничения юрисдикционных полномочий между Преображенским приказом и Тайной канцелярией, то таковое разграничение носило исключительно территориальный характер: канцелярия рассматривала дела по «слову и делу», возбуждавшиеся в новой столице и на Северо-Западе, приказ – дела, возбуждавшиеся в остальных частях России [Голикова, 1964. С. 257–258; Анисимов, 1999. С. 110–111].
Весьма показательно, что в 1710-е гг. Преображенский приказ сохранил не только прежнюю компетенцию, но и особый формально-иерархический статус, заключавшийся в подчинении непосредственно монарху. Как установила еще Н. Б. Голикова, ведомство из села Преображенского упорно отказывалось предоставлять какую-либо информацию и выдавать дела даже по запросам Правительствующего Сената [Голикова, 1957. С. 33]. Неудивительно, что Преображенский приказ далеко не сразу сумел отладить взаимодействие и с органами правосудия, созданными в ходе проведения судебной реформы 1717–1723 гг.
Исстари привыкший к особому статусу приказ игнорировал поначалу саму учрежденную в декабре 1717 г. Юстиц-коллегию. 16 июля 1719 г. коллегия оказалась вынуждена направить царю доклад с жалобой на принявшие массовый характер самоуправные действия Преображенского приказа.
5 сентября 1719 г. президент Юстиц-коллегии А. А. Матвеев (уже единолично) обратился к Петру I с повторным докладом на эту тему, выдвинув предложение издать специальный указ, в котором разграничивалась бы компетенция Преображенского приказа и Юстиц-коллегии в делах, не касавшихся составов государственных преступлений 7.
Однако ни в 1719 г., ни в 1720 г., ни в 1721 г. предлагавшийся Андреем Матвеевым указ не появился (хотя, возможно, что какие-то указания на этот счет были даны монархом руководству Преображенского приказа в устной форме) 8. Но в начале 1722 г. Петр I собственноручно записал для памяти: «Определить, каким делам быть в Преображенском приказе» 9. Реализация означенного высочайшего замысла не затянулась.
Уже 29 апреля 1722 г. Петр I подписал закон, в котором впервые детально регламентировался круг ведения приказа в судебной сфере 10. В ст. 1 и 2 названного закона (не рассматривавшегося до сих пор в ни в исторической, ни в историко-правовой литературе 11) подтверждались как традиционные полномочия Преображенского приказа по разбирательству дел по государственным преступлениям, так и аналогично традиционные полномочия по рассмотрению судеб- ных дел, касавшихся военнослужащих гвардии. При этом в ст. 2 указа оговаривалось, что дела по искам самих гвардейцев должны были рассматриваться теми судебными органами, под юрисдикцией которых находились ответчики.
Согласно ст. 3 закона от 29 апреля 1722 г., к ведению Преображенского приказа были дополнительно отнесены дела о «великих убийствах» и «городских разбоях», совершенных в Москве и Санкт-Петербурге во время пребывания там императора 12. Завершало ст. 3 категорическое предписание никаких дел иного характера в судебное производство приказа более не принимать, чтобы «тем конфузии не зделать положенному регламенту» (т. е. не нарушать функционирование реформированной судебной системы).
Издание закона от 29 апреля 1722 г., казалось, незыблемо упрочило положение Преображенского приказа в государственном механизме Российской империи. Однако вскоре грянули события, едва не оказавшиеся для приказа роковыми. В начале 1723 г., впервые за историю могущественного ведомства из села Преображенского оба многолетних руководителя его аппарата – дьяки Я. В. Былинский и В. Н. Нестеров 13 – попали под суд по обвинению в преступлениях против интересов службы и против правосудия.
Еще не привлекавшее внимания исследователей уголовное дело по обвинению преображенских дьяков завязалось в первых числах февраля 1723 г. Уже 12 февраля 1723 г. Петр I указал, чтобы канцелярские и технические служащие Преображенского приказа объявили бы, что им известно о криминальных деяниях своих начальников («какие ведают [за ними]… противные указом дела, обиды и народное грабление и взятки») 14. 15 февраля 1723 г. император поручил разбирательство дела «дьяков преображенских»
Вышнему суду (непосредственно расследованием названного дела занялась Розыскная контора суда) 15. Не позднее середины февраля Якова Былинского и Василия Нестерова взяли под стражу.
В ходе следствия было вскрыто множество эпизодов преступной деятельности дьяков (особенно по фальсификации уголовных дел). Достаточно сказать, что, согласно доношения Вышнего суда Петру I от 8 марта 1723 г., к тому времени поступила информация уже о 47 уголовных делах, при разбирательстве которых Я. В. Былинский и В. Н. Нестеров допустили нарушения законности. При этом в доношении констатировалось, что в связи с делом дьяков «еще приходят челобитчики и доносители непрестанно…» 16.
Стоит заметить, что следствие по делу преображенских дьяков встречало подчас прямое сопротивление со стороны И. Ф. Ромодановского. Так, в сентябре 1723 г. глава Розыскной конторы Е. И. Пашков направил Вышнему суду доношение касательно бывшего подьячего Преображенского приказа В. Малгина, который «показал того ж приказу преступление указов дьяков». Зачисленный в штат Розыскной конторы, Василий Малгин был, однако, неожиданно «взят в Преображенской приказ за караул» 17.
Впрочем, с организационно-правовой стороны 1723 год особенных перемен в положение ведомства из села Преображенского не принес. В этом отношении показательна реакция Петра I на доклад Главного магистрата от сентября 1723 г., в котором содержалось, в частности, предложение изъять из подсудности Преображенского приказа городское население. 27 сентября 1723 г. в качестве высочайшей резолюции на этот пункт доклада была приведена копия закона от 29 апреля 1722 г. 18
Примечательно, что в том же 1723 г. находившийся с особыми поручениями Петра I на Урале генерал-майор В. И. Геннин предложил учредить представительство Преображенского приказа в Сибирской губернии. В письме императору от 22 октября 1723 г. Вилим Геннин высказал просьбу, чтобы для разбирательства дел по государственным преступлениям прислать «ис Пре-ображенска афицера… кому изволишь верить», который «в Сибири бы жил» 19. В направленном два дня спустя письме к И. Ф. Ромодановскому генерал-майор изложил соображения на этот счет более подробно.
По мысли В. И. Геннина, командированный в Тобольск уполномоченный Преображенского приказа производил бы (совместно с губернатором или вице-губернатором) разбирательство дел по «слову и делу», возбуждавшимся на территории Сибири. При этом по «малым делам» проектируемое сибирское представительство приказа осуществляло бы судопроизводство в полном объеме, а в остальных случаях – ограничивалось бы досудебным рассмотрением дела, результаты которого докладывались затем в Преображенский приказ [Редин, 2007. С. 281–282]. Однако, несмотря на серьезную обоснованность, данное предложение Ви-лима Геннина не нашло поддержки ни у И. Ф. Ромодановского, ни у Петра I 20.
Что бы там ни было, разоблачение Я. В. Бы-линского и В. Н. Нестерова явилось для императора очевидным поводом задуматься о дальнейшей судьбе Преображенского приказа – тем более, что старинное ведомство совершенно не вписывалось в перестроенный по шведским образцам государственный аппарат России начала 1720-х гг. О направлении размышлений законодателя на этот счет можно судить по утвержденной Уложенной комиссией 1720–1727 гг. в сентябре–октябре 1723 г. главе 2-й кн. 1 проекта Уложения Российского государства 1723–1726 гг., не вводившейся до настоящего времени в научный оборот. В этой всецело посвященной судоустройству обширной главе (состоявшей в итоговой редакции из 52 статей) о Преображенском приказе упоминалось единственный раз – в ст. 48, в которой за приказом предлагалось закрепить лишь рассмотрение исков на военнослужащих гвардейских полков (и то за исключением вотчинных дел) 21.
Особенно показательно, что о Преображенском приказе ничего не было сказано в утвержденной Уложенной комиссией 4 октября 1723 г. пространной статье 42 «В каковых делах государево слово и дело за собою сказывать и где о том доносить». В данной статье – вполне в соответствии с заголовком – описывалась процедура объявления «слова и дела», рассмотрением дел по которым ведомство из села Преображенского занималось, стоит повторить, с 1696 г. Но во второй половине 1723 г. Петр I взялся размышлять не только о целесообразности сохранения Преображенского приказа. На повестке дня тогда встал вопрос о системных переменах в устройстве суда по государственным преступлениям.
Дело в том, что по той самой ст. 42 гл. 2-й кн. 1 проекта Уложения заявление по «слову и делу» надлежало подавать либо непосредственно монарху, либо в канцелярию Сената 22. Иными словами, согласно внесенного в ст. 42 законодательного предположения, осуществление судопроизводства по делам о государственных преступлениях передавалось в ведение Правительствующего Сената. Вместо Преображенского приказа и Тайной канцелярии – специализированных судов, подчиненных непосредственно монарху – дела по «слову и делу» предлагалось впредь разбирать высшему органу государственной власти.
Учитывая, что одним из составителей главы 2-й (и, в частности, ст. 42) кн. 1 проекта Уложения явился член Уложенной комиссии сенатор и глава Тайной канцелярии П. А. Толстой 23, входивший в ту пору в ближайшее окружение Петра I, можно с уверенностью предположить, что подобный вариант реорганизации суда по государственным преступлениям проектировался с учетом тогдашних умонастроений законодателя или же вовсе по согласованию с ним. В этой связи нельзя не упомянуть и о Розыскной конторе при Сенате, весьма лаконичный именной указ об учреждении которой состоялся 13 января 1724 г. 24 Как представляется, именно Розыскной конторе предстояло в дальнейшем принять в производство дела по государственным преступлениям, которые поступали бы в Сенат в соответствии со ст. 42 гл. 2-й кн. 1 Уложения Российского государства (подготовка которого в 1724 г. находилась в завершающей стадии).
Если же заодно принять во внимание, что 15 января 1724 г. последовало издание закона об упразднении Тайной канцелярии, дела и канцелярский персонал которой предписывалось передать именно в Сенат [Веретенников, 1910. С. 221], то картина начала проведения новой реорганизации судебного устройства прояснится окончательно 25. Уместно заметить, что подобная реорганизация не противоречила в целом и национальному опыту государственного строительства. Как показала
Н. Б. Голикова, на протяжении XVI–XVII вв. Боярская дума нередко разбирала дела по государственным преступлениям [Голикова, 1991. С. 20–24, 29–30]. Правда, в те времена при Думе не создавалось никакого структурного подразделения, занимавшегося делами подобного рода.
Однако сложившимся во второй половине 1723 г. замыслам Петра I о преобразовании суда по государственным преступлениям не суждено было, в итоге, претвориться в жизнь. Как явствует из образцово сохранившегося указного и протокольного делопроизводства Правительствующего Сената за 1724–1725 гг. (включая секретное) 26, Розыскная контора в его структуре так и не была создана de facto 27. Не состоялось в ту пору и закрытия (или реорганизации) Преображенского приказа 28.
Более того: 21 апреля 1724 г. Сенат подтвердил – в очередной раз – подсудность дел по «слову и делу» именно ведомству из села Преображенского 29. В дополнение к этому, 7 мая 1724 г. Петр I указал направить дела из ликвидировавшейся Тайной канцелярии не в Сенат (как это предусматривалось в законе от 15 января 1724 г.), а опять-таки в Преображенский приказ [Голикова, 1964. С. 260–261]. Заодно так и не дошло до приговора почти завершенное следственным производством дело преображенских дьяков. Я. В. Былинского и
В. Н. Нестерова было предписано освободить из-под стражи уже спустя два дня после кончины первого российского импе- ратора – по ст. 2 именного указа от 30 января 1725 г. 30
Остается добавить, что шаткая обстановка государственных преобразований конца 1710-х – первой половины 1720-х гг. отнюдь не сказалась на интенсивности функционирования Преображенского приказа. Согласно данным Н. Б. Голиковой, за 1718–1725 гг. приказ осуществил рассмотрение 1988 дел (Тайная канцелярия за 1718–1726 гг. – только 280 дел) [Голикова, 1964. С. 258].
После 1725 г. Преображенский приказ еще успел и переименоваться в «канцелярию», и попасть в непосредственное подчинение Верховному Тайному Совету, и передислоцироваться на некоторое время из подмосковного Преображенского в Санкт-Петербург. Однако, сумев уцелеть при сокращении государственного аппарата в 1726–1727 гг., ведомство все более теряло былое значение (см.: [Голикова, 1964. С. 262–264]). В итоге этот реликт приказной юстиции был упразднен по именному указу от 4 апреля 1729 г. 31
Однако идее Петра I сосредоточить разбирательство дел по государственным преступлениям в особом структурном подразделении при высшем органе государственной власти не суждено было угаснуть. Эту идею воплотил на практике Петр III. Вместо так и не начавшей функционировать в 1724 г. Розыскной конторы в структуре Правительствующего Сената в феврале 1762 г. возникла просуществовавшая затем почти сорок лет Тайная экспедиция 32.
THE PREOBRAZHENSKY PRIKAZ: THE CIRCUMSTANCES OF ITS FUNCTIONING
IN THE TIMES OF THE «POLICE STATE» FORMATION (1717–1724)