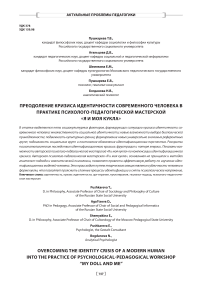Преодоление кризиса идентичности современного человека в практике психолого-педагогической мастерской "Я и моя кукла"
Автор: Пушкарева Е.А., Агальцова Д.В., Шемякина Е.М., Пушкарева Е.В., Богданова Н.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Актуальные проблемы педагогики
Статья в выпуске: 2 (43), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье выделяются пять социокультурных факторов, формирующих ситуацию кризиса идентичности со- временного человека: множественность социальной идентичности; новые возможности выбора биологической принадлежности; подвижность культурных границ; формирование новых универсально значимых референтных групп; подвижность социальных групп и постоянное обновление идентификационных перспектив. Раскрыты психопатологические последствия идентификационного кризиса: фрустрация и потеря энергии. Показаны воз- можности авторской психолого-педагогической мастерской «Я и моя кукла» по компенсации идентификационного кризиса. Авторская психолого-педагогическая мастерская «Я и моя кукла», основанная на принципах и методах гештальт-подхода и аналитической психологии, позволяет провести эффективную работу по изучению иден- тификационных моделей человека. Это происходит путем творческого овеществления субличности человека в форме куклы, что позволяет прояснить сложные процессы идентификации и снять психологическое напряжение.
Идентичность, кризис идентичности, арт-терапия, психолого-педагогическая мастерская
Короткий адрес: https://sciup.org/14120114
IDR: 14120114
Текст научной статьи Преодоление кризиса идентичности современного человека в практике психолого-педагогической мастерской "Я и моя кукла"
П роблема кризиса идентичности, впервые научно сформулированная Эриком Эриксоном, более чем за полвека ее обсуждения становится все более актуальной, психологические исследования проблем идентичности приобретают междисциплинарный характер, рассматриваются на стыке педагогики, социальной психологии, патопсихологии, культурологии, социологии, философии, политологии [1; 5; 8; 17, с. 56–67; 20]. Если Эриксон говорил о проблемах самоидентификации ветеранов Великой Отечественной войны и о восьми естественных возрастных кризисах идентичности в процессе развития личности [22; 23], то в современной научной литературе проблема кризиса идентичности рассматривается более широко – как синтетическая социокультурная проблема. И это закономерно, так как проблема идентичности действительно становится универсальной проблемой современных людей вне зависимости от статуса, пола, возраста, типа культуры и общества, проблемой, требующей соответствующего осмысления и решения в интересах обеспечения психического и физического здоровья человека.
Э. Эриксон определяет идентичность как «субъективное чувство, а также объективно наблюдаемое качество личной самотождественности и непрерывности, постоянства некоторой разделяемой с другими людьми картинымира» [22; 23].Уже вэтомопределении фактически выделены две формы идентичности – социальная (внешняя) и личностная (внутренняя), первая оказывается связанной с соотнесением личности с какой-либо социальной группой, вторая основывается на субъективном переживании целостности и непрерывности собственного «я». Первая оказывается проявлением суммы всех социальных связей человека, вторая – результатом личностной автономии. Жак Лакан уточняет важный для нашей темы момент связи внутренней и внешней идентичности: субъект конституирует свою идентичность, идентифицируясь с образом другого, который удерживает в нем чувство самости (себя) («По поводу психической причинности», 1946).
Современная культурная ситуация, уже много раз описанная в социально-психологической, куль- турологической, социологической литературе [2; 3], усложняет универсальный процесс самоидентификации человека, придавая ему новые, зачастую кризисные, черты. Можно выделить несколько факторов кризиса идентичности человека в современнуюэпоху. Первое. Для современного человека нормальна ситуация множественной идентичности, в которой индивид может одновременно осознавать свою причастность многим социальным группам [1]. Одна из причин этого – стремительное развитие всех сфер производства, заставляющее человека быстро адаптироваться к этим изменениям путем освоения новых видов деятельности, увеличение доли свободного времени в структуре занятости и, как следствие всего этого, возрастающее многообразие выполняемых социальных ролей. Немаловажным фактором формирования множественной идентичности становится неуклонное расширение реального (обеспечиваемого возможностью передвижения) и виртуального (обеспечиваемого информационными технологиями) жизненного пространства. Это заставляет обычного человека, например, чувствовать себя не только гражданином своей страны, но и осознавать себя участником, например, постсоветского пространства или ЕС, христианской или мусульманской религии, представителем человечества. Обсуждаемые перспективы коммерческого освоения космоса обнаруживают все новые измерения идентификационных характеристик современного человека.
Второе. Происходит стремительное усложнение традиционных, ранее простых, параметров самоидентификации человека: идентификации по возрасту, полу, этнической и расовой принадлежности. Возможности биомедицинских технологий и бурное развитие индустрии красоты заставляют человека выбирать то, что ранее не предлагалось для выбора, ставя не только новые биомедицинские и правовые проблемы, но и обнаруживая новые экзистенциальные проблемы: проблемы существования в чужом теле, с новым лицом и другим цветом кожи и проблемы интерпретации таких изменений в Другом. Сама возможность этих предложений трансформирует ситуацию самоидентификации человека в современном мире, новые выборы не только решают, но и порождают веер психологических проблем.
Третье. В современном поликультурном глобальном обществе культурные границы также обретают подвижность и мягкость. «До сих пор большинство людей принимало культуру как судьбу, подобно климату или родному языку. В нашем же случае эмпатическое проникновение в жизнь других культур есть не что иное, как способ освобождения из тюрьмы» [9, с. 114]. Продолжая эту мысль Маклюэна, можно заметить, что пресловутый «выход на свободу» – это один из самых драматичных идентификационных кризисов, за свободу же от собственной культуры нередко приходится платить большую цену, что показывает разнообразный опыт мировой миграции.
Неравномерный характер глобализации приводит к тому, что общества начинают вырабатывать защитные механизмы и поддерживать тенденции локализации. Такое противостояние глобальным социокультурным процессам нередко выражается в форме искусственной мифологизации социума, что на уровне индивида перерастает в гипертрофированное восприятие культурно-этнических признаков [11, с. 26–31; 21].
Четвертое. В современном мире продуцируются новые универсальные формы идентичности, связанные преимущественно с развитием новых средств коммуникации. Исследователи выделяют, например, такие новые формы идентичности, как потребительская, виртуальная, корпоративная, идентичность по стилю жизни, селебрити-идентичность [8]. Интернет становится средой для актуализации многих бессознательных психических процессов архетипического характера [10]. Информационные технологии позволяют самоидентифицироваться личности в виртуальной жизни иначе, чем в жизни реальной.
Пятое. Можно констатировать ситуацию «теку-чей»(поЗ. Бауману) идентификации, что вызвано, прежде всего, подвижностью рамок социальных групп, постоянным притоком новых идентификационных перспектив. «Проблема, мучающая людей …состоит не столько в том, как обрести избранную идентичность и заставить окружающих признать ее, сколько в том, какую идентичность выбрать и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная идентичность потеряет ценность или лишится ее соблазнительных черт» [2].
Весь комплекс перечисленных выше факторов приводит к целому ряду социально- и патопсихологических последствий, которые и определяют кризис идентичности человека в современном мире. «Традиционно кризис идентичности определяется как особая ситуация сознания, когда большинство социальных категорий, посредством которых человек опре- деляет себя и свое место в обществе, кажутся утратившими свои границы и свою ценность» [1].
Среди форм проявления кризиса идентичности выделяются следующие (по Г.М. Андреевой): подрыв базового стремления человека к безопасности, переориентация идентификации на близкие первичные группы (семья, друзья), избегание слишком устойчивой фиксации отождествления с определенной группой; доминирование личностной идентификации над социальной, т.е. акцентирование личной тождественности и уникальности, а не принадлежности к группе (так называемый «поиск себя»). Неизменно сопутствуют ситуации идентификационного кризиса (по И.А. Климову) болезненное переживание людьми собственной маргинальности, идентичност-ных несоответствий актуальным социальным требованиям, утрата единства собственной биографии (достижений) и разрушение жизненных планов. Зигмунд Бауман описывает состояние тотальной ночной тревоги современного человека, заставляющего его целыми днями «изгонять призраков неопределенности» ритуальным шопингом [3, с. 89].
Обилие и изменчивость внешних факторов заглушают вызовы «самости», заставляют тратить энергию на постоянную внешнюю идентификационную настройку, забирая энергию тождественности «Я». Эрих Фромм писал о деперсонализации, или потере себя, в результате описанного дисбаланса личной и социальной идентичности, когда индивид обретает единство с людьми и с миром, заплатив «...полным отказом от индивидуальности и целостности человеческого “Я”» [19, с. 291].
Данная ситуация сказывается на социальном самочувствии людей, может привести к развитию патологии на индивидуальном уровне. Так, известный гештальт-психолог Д. Франчесетти убедительно показывает, что, например, такой клинический симптом, как панические атаки, развивается чаще всего в ситуации стрессового перехода от «ойкоса» (домашнего пространства) к «полису» (публичному пространству) [18], т.е. ситуации идентификационного кризиса. Даже если кризис идентификации не проявляет себя в патологии, все равно он сказывается негативно, фрустрируя личность и отнимая жизненную энергию.
Куклотерапия как разновидность практики арт-терапии имеет комплексный характер, но, как показывает наш опыт проведения психологической мастерской «Я и моя кукла», оказывается особенно действенными при работе с ситуациями и последствиями идентификационных кризисов разного рода.
Психолого-педагогическая мастерская «Я и моя кукла» [12] – социокультурный проект, направленный на самопознание, саморазвитие и приобщение к ценностям народной культуры. Проект осуществляется на базе библиотеки № 221 СЗАО г. Москвы. В течение
2014/15 учебного года авторами мастерской были проведены выездные занятия для студентов ряда направлений Российского государственного социального университета и Московского педагогического государственного университета в рамках изучения таких дисциплин, как «Социально-культурное проектирование», «Культура деловых коммуникаций», «Народная художественная культура» и др., что позволило характеризовать данный проект как психолого-педагогическую мастерскую.
Психолого-педагогическая мастерская «Я и моя кукла» основана на принципах и методах геш-тальт-подхода. Она сочетает в себе элементы арт-терапии, групповой терапии, традиционных женских практик. В процессе мастерской участники изготавливают народную куклу, творчески переосмысливая традицию. При сохранении основных параметров ку-клы-мотанки (тряпичная кукла, изготавливаемая без иголки) допускаются все возможные варианты творческой интерпретации образа (размер куклы, цвет волос, наряд, украшения, атрибуты). Важным результатом мастерской становится самостоятельно выполненный арт-объект в технике хэнд-мейд. Мастерская проводится в рамках различных образовательных программ, программ личностного роста, тренингов в организациях (например, тимбилдинг), культурномассовых мероприятий, а также в рамках программ медицинской реабилитации.
В течение полугода с октября 2014 г. по апрель 2015 г. было проведено двенадцать мастерских с разными участниками, в результате которых большинство участников отметили следующие позитивные изменения: улучшение настроения, стабилизацию эмоционального состояния, желание повторить опыт создания куклы, осознание своих персональных психологических реакций, принятие себя, повышение самооценки.
Что касается работы с идентификационными моделями, то, по наблюдению ведущих, реализованное желание повторить опыт создания куклы приводит к уточнению и стабилизации идентификационных моделей. Несколько участников мастерской повторно участвовали в мастерской, последовательно создавая варианты своих субличностей. В среднем повторное изготовление кукол происходило около трех раз. Максимальное количество кукол, изготовленных одним участником за полгода по собственной инициативе, дошло до семи.
Успех работы по преодолению кризиса идентификации в нашей мастерской связан, в первую очередь, с возможностью в практике куклотерапии овеществления субличностей человека. Понятие субличности выступает здесь как синоним идентификационной модели [15]. Одновременно куклотерапия в нашем случае оказалась и своеобразным маркером личностных идентификационных затруднений у аудитории: наиболее сильный интерес к нашей психологической мастерской «Я и моя кукла» возник у людей именно с такими переживаниями.
Кукла имеет универсальное значение на протяжении всей истории культуры человечества, начиная с первобытных прообразов. Это трехмерное изображение человека или животного, предназначенное для творческих манипуляций с ними (игры или религиозно-мистических ритуалов), в истории культуры имело и до сих пор имеет разные функции [15, с. 11–30]. В отличие от подобной ей скульптуры (требующей созерцания, постижения авторского замысла, а также дистанции между воспринимающим и автором), кукла требует манипуляций – «смыслопорождающей игры» (Ю.М. Лотман). Именно это свойство превращает куклу в мощное терапевтическое средство, возможности которого оказываются поистине неисчерпаемыми.
Г.Г. Гребенщикова выделяет следующие механизмы преобразования психической энергии в процессе куклотерапии: проекция, замещение, сублимация, идентификация [4]. Однако, по нашим наблюдениям за процессом куклотерапии, можно сделать вывод, что созданная кукла всегда выступает как вариант идентичности самого человека, так как бессознательным образом человек визуализирует вариант субличности, актуальный в данный момент. При этом, по справедливому замечанию Гребенщиковой, в процессе терапевтического изготовления куклы человек неизбежно попадает в ситуацию позитивного принятия себя, т.е. оказывается в ситуации позитивной идентификации.
Как и всем арт-терапевтическим практикам, куклотерапии присущ механизм диссоциирования с проблемой (в процессе появляется возможность и способность посмотреть со стороны на созданный объект как на себя и даже откорректировать его (а значит, себя)). Процесс изготовления куклы, как все практики, выводящие человека за рамки повседневности, обладает особой ресурсной емкостью. Кукла (в силу своего антропоморфного характера) по сравнению с другими видами творчества обладает свойствами своеобразной и наиболее точной метафоры человека. Изменяя образ куклы, человек оказывается способен изменить и себя [6]. Кроме того, по нашим наблюдениям, работа с куклой возвращает человека к его телесным переживаниям, связи со своим телом, и создается возможность в работе идентификации опереться на свои физические ощущения, а не только на образ себя.
Сознательное обращение в практике кукло-терапии к архетипичным субличностям – персоне, самости, тени, аниме или анимусу [16], или таким субличностям, как «реальное Я» и «идеальное Я», или архетипическим образам славянской народной куль- туры – может иметь дополнительный терапевтический эффект.
Образ Другого, воплощенный в кукле, становится своеобразной идентификационной версией самого себя, которая позволяет принять, изучить, откорректировать и затем вновь интегрировать обна- руженную таким образом субличность в актуальную структуру личности человека, тем самым прояснить для него самого сложные процессы идентификации и в значительной мере снять психологическое напряжение, неизбежно сопутствующее поискам социально-культурной идентичности в современном мире.
Список литературы Преодоление кризиса идентичности современного человека в практике психолого-педагогической мастерской "Я и моя кукла"
- Андреева Г.М. К вопросу о кризисе идентичности в условиях социальных трансформаций // Психологические исследования. - 2011. - № 6 (20). С. 1. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psystudy.ru/index.php/ num/2011n6-20/580-andreeva20.html (дата обращения: 27.04.2015).
- Бауман З. Индивидуализированное общество. - М.: Логос, 2005. - 390 с.
- Бауман З. Текучая современность. - М.: Питер, 2008. - 290 с.
- Гребенщикова Г.Г. Основы куклотерапии. Галерея кукол. - Спб.: Речь, 2007. - 86 с.
- Идентичность как предмет политического анализа: материалы научно-теоретической конференции. 21-22 октября 2010 г. - М.: ИМЭМО РАН, 2011. - 299 с.