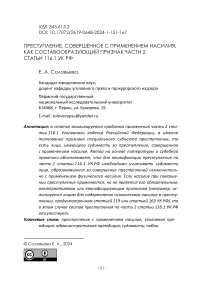Преступление, совершенное с применением насилия, как составообразующий признак части 2 статьи 116.1 УК РФ
Автор: Соловьева Е.А.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется проблема применения части 2 статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно толкование признака специального субъекта преступления, то есть лица, имеющего судимость за преступление, совершенное с применением насилия. Автор на основе литературы и судебной практики обосновывает, что для квалификации преступления по части 2 статьи 116.1 УК РФ необходимо учитывать судимости лица, образовавшиеся за совершение преступлений исключительно с применением физического насилия. Если насилие при совершении преступления применяется, но не является его обязательным, альтернативным или квалифицирующим признаком (например, используется лицом для подкрепления психического насилия в преступлении, предусмотренном статьей 119 или статьей 163 УК РФ), то в этом случае состав преступления по части 2 статьи 116.1 УК РФ отсутствует.
Преступление с применением насилия, уголовная преюдиция, административная преюдиция, судимость, побои
Короткий адрес: https://sciup.org/147243418
IDR: 147243418 | УДК: 343.615.2 | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-1-151-167
Текст научной статьи Преступление, совершенное с применением насилия, как составообразующий признак части 2 статьи 116.1 УК РФ
А дминистративная преюдиция на протяжении многих лет остается одним из самых дискуссионных, загадочных явлений в уголовном праве1.
Ученые нашей страны уже неоднократно высказывались против ее применения при конструировании составов преступлений, отмечая, что законодатель еще в 1996 году отказался от использования составов с административной преюдицией и не было оснований возвращать их в Уголовный кодекс Российской Федерации2 в 2009 году.
Пятнадцатилетний опыт применения административной преюдиции в современном уголовном законе позволяет сделать вывод, что ее использование лишь порождает доктринальные и правоприменительные проблемы, к которым относятся, в частности, вопрос об основании криминализации деяния в составе с административной преюдицией, соблюдение принципа вины, отсутствие единообразия при конструировании таких составов, усложнение процессуального порядка привлечения лица к ответственности, усиление репрессивности закона и др.
Вместе с тем ученые, прогнозируя развитие административной преюдиции в уголовном праве, заключают, что с каждым годом она будет применяться все больше3. Кроме того, на протяжении последних лет в научных исследованиях были попытки обосновать необходимость и законность использования административной преюдиции для конструирования составов преступлений4, а после разъяснений Конституционного Суда РФ5 – убедить и в эффективности применения так называемой уголовной преюдиции для предупреждения совершения лицом новых преступлений6.
Praejudicialis в переводе с латинского означает «относящийся к предыдущему судебному решению», «налагаемый на основании предыдущего судебного решения»7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-ции8 в статье 90 закрепляет норму о преюдиции, согласно которой факт совершения лицом преступления, установленный вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьями 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, признается судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки9. Таким образом, если при квалификации деяния лица необходимо установить его правовое состояние, обусловленное фактом осуждения за совершенное преступление, признаваемое дознавателем, следователем, прокурором и судом без дополнительной проверки, и последующее совершение этим лицом аналогичного деяния, то такую преюдициальную связь можно назвать уголовной преюдицией. (Хотя в литературе этот термин является неустоявшимся, большинство выделяет другие виды преюдиции: административную, гражданско-процессуальную, уголовно-процессуальную и межотраслевую10).
Отметим, что такая уголовная преюдиция появилась и в части 2 статьи 116.1 УК РФ в 2022 году, после признания статьи 116.1 УК РФ не соответствующей Конституции РФ и вынесения 8 апреля 2021 года Конституционным Судом РФ постановления № 11-П «По делу о проверке конституционности статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Л. Ф. Саковой» (далее – Постановление № 11-П), в котором он отметил, что лица, имеющие судимость за нанесение побоев или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, находятся в более привилегированном положении, чем лица, подвергнутые административному наказанию за совершение аналогичных действий. В результате Госдума была вынуждена изменить статью 116.1 УК РФ и закрепить в качестве составообразующего признака в части 2 признак субъекта преступления – «лицо, имеющее судимость за преступление, совершенное с применением насилия», тем самым зафиксировав в части 2 статьи 116.1 УК РФ не административную, а уголовную преюдицию. То есть теперь обстоятельства совершения лицом
___________________________________________________ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ преступления с применением насилия, установленные вступившим в силу приговором суда, должны признаваться судом и иными лицами, указанными в статье 90 УПК РФ, без дополнительной проверки, за исключением приговоров, постановленных судом в соответствии со статьями 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ.
Об ошибочности введения данного признака, характеризующего субъекта преступления, уже высказывались ученые, отмечая, что он не соответствует требованиям правовой определенности11, поскольку легального определения или перечня составов преступлений, охватываемых понятием «преступление, совершенное с применением насилия», в уголовном законе нет. В связи с этим в правоприменительной практике возникает ряд вопросов, касающихся толкования признаков состава, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ.
Во-первых, образует ли судимость лица, совершившего преступление с применением психического насилия, признак состава преступления, предусмотренный частью 2 статьи 116.1 УК РФ?
Д. М. Кокин, рассуждая над поставленным вопросом, считает, что учет в части 2 статьи 116.1 УК РФ лишь судимостей за совершение преступлений с применением физического насилия является необоснованным12. Думается, однако, что это мнение ошибочно. Приведем некоторые аргументы высказанного тезиса.
В уголовно-правовой науке под насилием понимают «общественно опасное противоправное физическое или психическое воздействие на другого человека, совершаемое вопреки или помимо его воли, представляющее опасность для жизни или здоровья в момент применения, лишения свободы, могущее повлечь причинение вреда здоровью различной степени тяжести или смерть»13. Если лицо, посягая на охраняемые уголовным законом объекты, использует насилие, такое преступление признается насильственным. На сегодняшний день насильственные преступления «разбросаны» по всему УК РФ, где основную часть занимают преступления против личности, экономики, общественной безопасности и общественного порядка, государственной власти. При этом, по подсчетам А. Б. Кирюхина, законодатель «использует более двух десятков терминов, обозначающих насильственный способ совершения преступления»14. К ним можно отнести побои, причиняющие физическую боль насильственные действия, принуждение, посягательство, угрозу применения насилия и др. Следовательно, насильственные преступления включают в себя физическое (то есть умышленное воздействие силой на другое лицо помимо или вопреки его воле, посягающее на его телесную неприкосновенность, здоровье или жизнь, ограничивающее или исключающее его свободу волеизъявления)15 и психическое насилие16, под которым понимается умышленно выраженное вовне намерение противоправно применить физическое насилие к другому лицу с целью подавления его сопротивления и подчинения его воли воле виновного17.
Отечественные специалисты вполне обоснованно отмечают различность использования в УК РФ терминов «насильственное преступление» и «преступление, совершаемое с применением насилия», потому что законодатель в уголовном законе использует устойчивую формулировку «преступление, совершаемое с применением насилия или с угрозой его примене-ния»18, то есть проводит грань, отделяя физическое насилие от психического. Л. Д. Гаухман подчеркивает, что под термином «насилие» законодатель понимает лишь физическое насилие, поскольку если речь идет о психическом насилии, то это специально оговаривается в уголовном законе19. К такому же выводу приходит и Л. Л. Кругликов: «Ныне законодатель в УК 1996 года оперирует понятием “насилие” лишь в одном смысле – физическое воздействие,
___________________________________________________ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ используя его наряду с угрозой применения как парным признаком»20. О. В. Артюшина, исследуя криминообразующий признак специального субъекта части 2 статьи 116.1 УК РФ, заключает, что преступление, совершенное с применением насилия, охватывает лишь физическое насилие21. Заметим, что и Верховный Суд РФ разделяет физическое насилие («применение насилия») и психическое насилие («угроза его применения»)22.
Представляется, что разграничение законодателем физического и психического насилия обусловлено прежде всего тем, что физическое насилие «причиняет более опасный вред личности, чем вред, наступивший в результате совершения преступления с применением психического насилия»23, так как оно имеет реальный, а не вероятностный характер причинения вреда телесной неприкосновенности, здоровью потерпевшего. Тем не менее в ряде случаев, например в статье 162 УК РФ, законодатель прямо приравнивает по степени опасности угрозу применения физического насилия (психическое насилие) и само физическое насилие.
Кроме того, угроза нарушения телесной неприкосновенности, по мнению законодателя, не обладает достаточной степенью общественной опасности, как и угроза причинения вреда здоровью легкой и средней тяжести, если нет сопряженности с посягательствами на другие объекты, охраняемые уголовным законом, в связи с чем уголовная ответственность предусмотрена лишь за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью или причинение смерти человеку. Следовательно, законодатель дифференцирует уголовную ответственность для лиц, использующих разные виды насилия.
Более того, угроза причинения вреда телесной неприкосновенности не обладает и достаточной степенью вредоносности деяния, чтобы признать ее административным правонарушением, потому что угроза применения на-
СОЛОВЬЕВА Е. А ________________________________________________________________ силия, посягающего на телесную неприкосновенность личности, не образует состава административного правонарушения. Следовательно, включать ее в составообразующий признак части 2 статьи 116.1 УК РФ нельзя. Иное толкование данного признака приведет к искусственной криминализации деяния и необоснованному привлечению лиц к уголовной ответственности, поскольку степень опасности личности, являющаяся, по мнению законодателя, основанием криминализации деяния с административной преюдицией, будет даже ниже, чем в части 1 статьи 116.1 УК РФ.
Конституционный Суд РФ, мотивируя свое решение о признании недействительной статьи 116.1 УК РФ в Постановлении № 11-П, исходил из невозможности ставить одно лицо, совершающее аналогичные (повторные) действия, в более привилегированное положение. Следовательно, если учитывать в части 2 статьи 116.1 УК РФ судимости лица́ за преступления, совершенные с использованием психического насилия, то ли́ца, которые применяют угрозу телесной неприкосновенности без посягательства на другие объекты, охраняемые уголовным законом, будут находиться в более привилегированном положении, чем те, кто уже привлечен к ответственности за совершенное преступление с использованием психического насилия.
Вместе с тем в судебной практике встречаются приговоры, в которых была учтена судимость за совершение преступлений, где применялось именно психическое насилие. Так, по приговору мирового судьи судебного участка № 7 Кунгурского судебного района Пермского края от 6 июля 2021 года (дело № 1-14/2021) С. был осужден по части 1 статьи 119 УК РФ за совершение угрозы убийством, а именно «за направление ствола пистолета в область лба потерпевшего и передергивание при этом затвора». Указанная судимость явилась основанием для осуждения С. по приговору Кунгурского городского суда Пермского края от 15 февраля 2023 года (дело № 1-65/2023), которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ, за нанесение побоев Ф. Приговором Лю-бимского районного суда Ярославской области Р. был осужден по части 2 статьи 116.1 УК РФ за совершение побоев, которые причинили физическую боль, но не повлекли последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и не содержали признаков преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ и совершенного лицом, имеющим судимость за преступление с применением насилия, а именно за преступления, предусмотренные частью 1 статьи 119, частью 1 статьи 117 УК РФ. В данном приговоре, в мотивировочной его части, судом не исследовался вопрос, какое именно, физическое или психическое,
___________________________________________________ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ насилие применялось осужденным. Оба преступления были отнесены к преступлениям, совершаемым с применением насилия24.
Таким образом, представляется, что судимость лица, образовавшаяся за совершение преступления, в котором применялось психическое насилие, учитываться в части 2 статьи 116.1 УК РФ не может.
Во-вторых, образует ли признак субъекта преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ, судимость лица за совершение преступлений с применением физического насилия, которое прямо не поименовано в качестве составообразующего или альтернативного признака состава преступления?
В своем Постановлении № 11-П Конституционный Суд РФ «намекнул» законодателю о том, что при внесении изменений в статью 116.1 УК РФ необходимо учитывать судимости лица не только за нанесение побоев или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, которые указаны в статье 116.1 УК РФ, но и другие составы преступлений, которые устанавливают ответственность за аналогичные по объективной стороне, но более общественно опасные деяния (например, ст. 117, 335 УК РФ).
В связи с этим в первоначальной редакции проекта федерального закона был четкий перечень составов преступлений, судимости за которые учитывались при привлечении лица к ответственности по части 2 статьи 116.1 УК РФ. К ним разработчики законопроекта отнесли преступления, предусмотренные статьями 105, 110, 111, 112, 115–117, 119, 120, 131, 132, 162, 206, 227, 277, 295, 317, 318, 321, 333, 334, 357 УК РФ и являющиеся, безусловно, насильственными, а равно сопряженные с применением насилия преступления, предусмотренные статьями 126, 127, 127.1, 127.2, 133, 139, 141, 142, 144, 148, 149, 150, 151, 156, 161, 163, 166, 170.1, 178, 179, 185.5, 194, 203, 211, 212, 213, 221, 226, 226.1, 229–230.1, 239, 240, 241, 243.4, 244, 282, 283.1, 286, 296, 302, 309, 313, 322, 330, 335, 356 УК РФ25. Было очевидно, что авторы законопроекта не учли необходимости разграничения тех преступлений, которые совершаются посредством физического насилия, и тех, где способом совершения преступления выступает лишь угроза его применения. На это обратил внимание Верховный Суд РФ в своем официальном отзыве на данный зако-
СОЛОВЬЕВА Е. А ________________________________________________________________ нопроект26, в результате чего законодателю пришлось отказаться от закрепления перечня составов преступлений и указать только признак – «преступление, совершенное с применением насилия».
Физическое насилие используется законодателем, по нашим подсчетам, при конструировании более ста составов преступлений, в которых насилие: признается признаком основного состава преступления, так как характеризует деяние (ст. 105, 111, 116, 117, 277, 295, 317 УК РФ и др.); является одним из альтернативных признаков состава преступления (ст. 131, 162, 213, 227 УК РФ и др.), квалифицирующим признаком (п. «в» ч. 2 ст. 127, п. «б» ч. 2 ст. 179, п. «в» ч. 2 ст. 206, п. «б» ч. 2 ст. 226.1, п. «в» ч. 4 ст. 229.1, п. «б» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ), одним из альтернативных квалифицирующих признаков (п. «г» ч. 2 ст. 161, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ и т.д.). Кроме того, в некоторых преступлениях физическое насилие может использоваться лицом для придания угрозе реальности ее осуществления, но само физическое насилие не является ни его обязательным, ни квалифицирующим признаком (например, ст. 119 УК РФ).
В своем исследовании Е. А. Алференок и А. П. Дмитренко предлагают учитывать судимости за преступления, в которых насилие не является ни обязательным, ни квалифицирующим признаком 27. Такое толкование представляется чрезмерно расширительным, потому что «возвращает» к состоянию законодательства 2015 года, когда побои были декриминализованы в связи с тем, что в структуре преступности каждое второе лицо осуждалось за преступление небольшой тяжести28.
Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за 2022 год по статье 116.1 УК РФ (включая ч. 1 в ред. федерального закона от 28 июня 2022 года № 203) было осуждено 1910 человек29. А уже за первое полугодие 2023 года по части 2 статьи 116.1 УК РФ осуждено 1718 человек, по части 1 – 81330. Для сравнения: в 2021 году за нанесение побоев было осуждено 1787 лиц, подвергнутых административному наказанию. Очевидно, что включение части 2 статьи 116.1 в УК РФ не способствует формированию общей тенденции к гуманизации уголовного законодательства. Если учитывать судимости, в которых физическое насилие, не предусмотренное в качестве признака состава преступления (например, ст. 119, ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 296 УК РФ), применялось при совершении преступления, то ни о какой гуманизации в отношении лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, говорить нельзя. А как мы помним, идея возвращения составов преступлений с административной преюдицией заключалась именно в гуманизации уголовного законодательства. В связи с этим представляется справедливым, что Индустриальный районный суд города Перми при признании З. виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ не учел наличия у виновного судимости по части 1 статьи 119 УК РФ31, поскольку, повторимся, психическое насилие не образует преступления, совершенного с применением насилия.
Кроме того, как справедливо отмечает Н. А. Лопашенко, «отличие административного правонарушения, лежащего в основе преступления, от преступления с преюдицией – это определенная кратность совершения такого правонарушения в преступлении и наложение за первые факты правонарушений административной ответственности»32. К такому же выводу приходит Н. И. Пикуров33. Объективные и субъективные признаки ранее совершенного деяния и деяния, которое в последующем совершается виновным, при использовании конструкции с преюдицией должны полностью совпадать. Исключительно повторность совершения лицом одного и того же деяния, по мнению законодателя, повышает степень его вредоносности до общественной опасности. Следовательно, объект посягательства в составах с преюдицией должен быть идентичным, иначе произойдет ужесточение уголовной ответственности, так как будет иметь значение не сам факт повторности посягательства лица на охраняемый уголовным законом объект, а опасность лица
СОЛОВЬЕВА Е. А ________________________________________________________________ для общества в связи с неоднократностью совершения им преступления, посягающего на различные объекты, при которых лицо избирает насильственный способ достижения своей преступной цели.
Непосредственным объектом преступления «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» выступает телесная неприкосновенность34, которая совпадает с объектом по-боев35. При этом телесная неприкосновенность может выступать не только основным объектом преступления, но и дополнительным (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), а в некоторых преступлениях, например при совершении убийства, причинении тяжкого вреда здоровью человека, без нарушения телесной неприкосновенности почти невозможно посягнуть на объект.
Вместе с тем О. В. Артюшина справедливо считает, что при конструировании состава, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ, законодатель отошел от типичного использования административной преюдиции, при которой учитывались лишь судимости за аналогичные деяния36 – когда виновный посягает на один и тот же основной (непосредственный) объект, охраняемый уголовным законом. В части 2 статьи 116.1, к сожалению, теперь можно учитывать судимости лица не только за те преступления, которые непосредственно посягают на телесную неприкосновенность, но и за те, в которых телесная неприкосновенность выступает дополнительным объектом. Анализ судебной практики показывает, что в основном суды учитывают в качестве преступлений, совершенных лицом с применением насилия, лишь те, где физическое насилие выступало основным способом совершения преступления (ч. 1 ст. 10537, ч. 1 ст. 11738, п. «в» ч. 2 ст. 11539, п. «а» ч. 3 ст. 11140, ч. 4 ст. 11141, п. «з» ч. 2 ст. 11142, ч. 1 ст. 11243, п. «з» ч. 2 ст. 11244, ч. 2 ст. 31845 УК РФ).
Кроме того, в ходе обобщения судебной практики было установлено, что суды в некоторых приговорах учитывали судимости лица за совершение преступлений, в которых физическое насилие выступало альтернативным способом посягательства наравне с психическим насилием. К сожалению, в мотивировочной части приговоров суды лишь оговаривали наличие факта судимости у лица за совершение преступления с применением насилия, указывая данные приговора и статью, по которой лицо было привлечено к уголовной ответственности, и не выясняя вида насилия, которым виновное лицо непосредственно воздействовало на потерпевшего. Так, по приговору Ше-мышейского районного суда Пензенской области от 10 марта 2023 г. по делу № 1-8/2023 Г. был осужден по части 2 статьи 116.1 УК РФ, при этом в качестве судимости за преступление, совершенное с применением насилия, суд учел часть 1 статьи 131, часть 1 статьи 132 УК РФ. Суд не исследовал вопрос о виде насилия, которое применялось виновным к потерпевшему по предыдущему приговору суда.
Аналогичным образом не решался вопрос об установлении вида насилия в преступлении, где физическое насилие выступало альтернативным признаком состава преступления (п. «г» ч. 2 ст. 16146, ч. 2 ст. 13947 УК РФ), при привлечении лиц к уголовной ответственности по части 2 статьи 116.1 УК РФ и в других приговорах48. Думается, что суд обязан при учете судимостей за совершение преступлений, в которых физическое насилие есть альтернативный способ состава преступления наряду с психическим, устанавливать факт применения исключительно физического насилия. Процессуальных препятствий у суда не возникнет, поскольку предыдущий приговор, по которому лицо имеет судимость, входит в совокупность доказательств совершения лицом преступлений с преюдицией.
Таким образом, несмотря на правило, закрепленное в статье 90 УПК РФ, при квалификации действий лица по части 2 статьи 116.1 УК РФ необходимо изучать приговор суда, по которому лицо было привлечено за совершенное преступление с применением насилия, и устанавливать характер насилия, примененного лицом при посягательстве на потерпевшего.
Анализ научной литературы и практики применения части 2 статьи 116.1 УК РФ дает основание для следующих выводов:
-
1. Можно по-разному относиться к использованию законодателем преюдиции при конструировании составов преступлений, но факт остается фактом – в действующем уголовном законе она есть, в том числе и в части 2 статьи 116.1 УК РФ, а правоохранительные органы, Конституционный Суд РФ и некоторые ученые поддерживают конструирование уголовно-правовых запретов с ее использованием. Модернизация данной статьи путем добавления части 2 и закрепления уголовной преюдиции не соответствует общей политике государства по гуманизации уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести.
-
2. Для квалификации преступления по части 2 статьи 116.1 УК РФ необходимо учитывать судимости лица, образовавшиеся за совершение преступлений исключительно с применением физического насилия.
-
3. К преступлениям, совершенным с применением насилия, для целей толкования части 2 статьи 116.1 УК РФ следует относить те, в которых физическое насилие: признается признаком основного состава преступления, так как характеризует деяние (ст. 105, 111, 116, 117, 277, 295, 317 УК РФ и др.); является одним из альтернативных признаков состава преступления (ст. 131, 162, 213, 227 УК РФ и др.), квалифицирующим признаком (п. «в» ч. 2 ст. 127, п. «б» ч. 2 ст. 179, п. «в» ч. 2 ст. 206, п. «б» ч. 2 ст. 226.1, п. «в» ч. 4 ст. 229.1, п. «б» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ и др.), одним из альтернативных квалифицирующих признаков (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ и т.д.). При этом если насилие применяется при совершении преступления, но не является ни его обязательным, ни квалифицирующим признаком – например, используется лицом для подкрепления психического насилия (ст. 119 или 163 УК РФ), то состав преступления по части 2 статьи 116.1 УК РФ не образуется.
Список литературы Преступление, совершенное с применением насилия, как составообразующий признак части 2 статьи 116.1 УК РФ
- Аветисян С. В. Административная преюдиция как инструмент криминализации и декриминализации (на примере статей 178, 180, 2121 УК РФ) // Российское конкурентное право и экономика. 2019. № 4. С. 68-73.
- Алференок Е. А., Дмитренко А. П. Судимость за преступление, совершенное с применением насилия, как квалифицирующий признак побоев (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ) // Вестник экономической безопасности. 2022. № 6. С. 20-23.
- Артюшина О. В. Судимость за преступление, совершенное с применением насилия, как криминообразующий признак // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 14, № 2. С. 36-43.
- Аюпова Г. Ш. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2019.
- Безверхое А. Г. Возвращение «административной преюдиции» в уголовное законодательство России // Российская юстиция. 2012. № 1. С. 48-53.
- Борисевич Г. Я. О проблемах применения статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса РФ // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 1. С. 260-268.
- ГаухманЛ. Д. Проблемы квалификации насильственных преступлений // Уголовное право. 2014. № 5. С. 39-42.
- Иванова В. В. Преступное насилие: учеб. пособие для вузов. М.: Кн. мир, 2002.
- Кирюхин А. Б. К вопросу об общественной опасности преступления, совершаемого с применением насилия или с угрозой применения насилия // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 4. С. 111-114.
- Кирюхин А. Б. Терминология, используемая действующим уголовным законодательством для обозначения преступления, совершаемого с применением насилия // Закон и право. 2014. № 2. С. 69-70.
- Кокин Д. М. Судимость за преступление, совершенное с применением насилия, как признак субъекта // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра: материалы ежегод. Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: СПбУ МВД РФ, 2023. С. 115-118.
- КругликовЛ. Л. О понятии и уголовно-правовой оценке насилия // Уголовное право. 2015. № 1. С. 72-75.
- Куликов А. В., Валов К. В. Анализ допустимости применения института административной преюдиции в уголовном праве в целях противодействия коррупции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2023. Вып. 1. С. 26-34.
- Лопашенко Н. А. Административной преюдиции в уголовном праве -нет! // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 3. С. 64-71.
- Лопашенко Н. А. Составы преступлений с административной преюди-цией - «свой среди чужих»? // Российский следователь. 2022. № 5. С. 51-55.
- Малков В. П. Административная и дисциплинарная преюдиция как средства декриминализации и криминализации в уголовном праве // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 2. С. 195-198.
- Мамхягов З. З. Административная преюдиция в уголовном праве: дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2022.
- Матушкин П. А. Предупреждение побоев и истязаний: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2017.
- Обухова Т. В. Потенциал норм с административной преюдицией для уголовного законодательства Российской Федерации // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2019. № 2. С. 79-81.
- Петин И. А. Механизм преступного насилия. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2004.
- Пикуров Н. И. Применение нового уголовного законодательства (статьи 1161, 157, 1581 УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г.) во взаимосвязи с нормами и институтами других отраслей права // Уголовное право. 2016. № 6. С. 53-62.
- Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. II: Преступления против личности. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2008.
- Сабитов Р. А. Административная преюдиция в уголовном праве: за и против // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2019. Т. 4, № 1. С. 84-90.
- Симонов В. И., Шумихин В. Г. Преступное насилие: понятие, характеристика и квалификация насильственных посягательств на собственность: учеб. пособие по спецкурсу. Пермь: ПГУ, 1992.
- Скрипниченко Н. Ю. Побои: новая редакция - новые проблемы // Пермский юридический альманах. 2023. № 6. С. 540-553.
- Соловьев В. С., Киселев С. С. Административная преюдиция в уголовном законе: от критики к пониманию // Пенитенциарная наука. 2019. Т. 13, № 3. С. 366-372.
- Челябова З. М. Насилие в посягательствах на собственность: понятие, виды, проблемы законодательной регламентации, квалификации и наказания: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2020.
- Эргашева З. Э. Административная преюдиция в уголовном праве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018.
- Ястребов О. А. Межотраслевая преюдиция и ее значение для совершенствования института доказывания уголовно-процессуального права // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 3. С. 26-29.