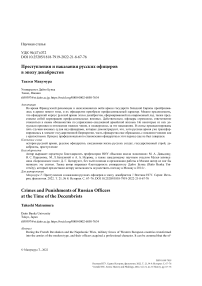Преступления и наказания русских офицеров в эпоху декабристов
Автор: Мацумура Т.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Во время Французской революции и наполеоновских войн армии государств Западной Европы преобразовались в армии нового типа, и их офицерство приобрело профессиональный характер. Можно предположить, что офицерский корпус русской армии эпохи декабристов, сформированной на современный лад, также представлял собой корпорацию профессиональных военных. Действительно, офицеры стремились ответственно относиться к своим обязанностям по управлению ежедневной армейской жизнью. Но некоторые из них допускали произвол в отношении нижних чинов, и подвергались за это наказаниям. В статье проанализированы пять случаев военных судов над офицерами, которые демонстрируют, что, хотя русская армия уже трансформировалась в элемент государственной бюрократии, часть офицерства еще обращалась с нижними чинами как с крепостными. Процесс профессионального становления офицерства в этот период еще не был завершен.
История русской армии, русское офицерство, ежедневная жизнь русских солдат, государственный строй, декабристы, преступление
Короткий адрес: https://sciup.org/147239021
IDR: 147239021 | УДК: 94(47).072 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-8-67-76
Текст научной статьи Преступления и наказания русских офицеров в эпоху декабристов
Matsumura T. Crimes and Punishments of Russian Officers at the Time of the Decembrists. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 8: History, pp. 67–76. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-8-67-76
Военные историки и исследователи гражданско-военных отношений (civil-military relations) считают армии западноевропейских стран XVIII в. постоянными армиями, сформированными вербовкой [Золотарев и др., 1984, с. 6; Штейфон, 1997, c. 319; Finer, 1988, p. 21; Huntington, 1964, p. 20; Menning, 2002, p. 71]. В таких армиях офицерам недоставало дисциплины, ответственности, профессиональной и специальной компетенции (expertise) [Huntington, 1964, p. 26], а нижним чинам, которые нередко являлись иностранными наемниками, конечно, не хватало патриотизма [Золотарев и др., 1984, c. 35–36; Панков, 1957, c. 5; Menning, 2002, p. 71].
Во время Французской революции и наполеоновских войн под влиянием развития национализма и демократии такого рода армии стали постепенно исчезать, вместо них появлялись армии национальные, организованные на основе всеобщей военной повинности [Finer, 1988, p. 197; Huntington, 1964, p. 37–38; Perlmutter, 1977, p. 60].
Помимо того, что эти армии были огромными по численности, они уже имели очень сложную структуру, не только служившую боевым нуждам, но и являвшуюся также частью государственно-бюрократического строя. Компетенции командиров каждого из подразделений при таком устройстве довольно сильно различались и специализировались. В то же время уже невозможно было пополнять состав офицеров только выходцами из дворян, в силу этого началось комплектование офицерского корпуса лицами недворянского происхождения [Huntington, 1964, p. 32, 40].
Для совершенствования подготовки офицеров нужно было повышать уровень их образования и по общим направлениям, и по специальным военным дисциплинам. В результате развития систем военного образования офицерская прослойка в армии постепенно превращалась в класс военных профессионалов. Офицер по своей сути являлся одновременно и государственным служащим, и профессионалом, обладающим специальными знаниями и навыками. Функция такого профессионального офицера состоит в управлении насилием, область его ответственности – обеспечение безопасности общества, которое является потребителем его услуг. Также на него возлагается ответственность за содержание личного состава армии. Ни финансовое вознаграждение, ни наказание не являются определяющими факторами в его мотивациях. В первую очередь, офицер действует, исходя из любви к своему делу и чувству социальной обязанности употреблять свои умения на благо общества [Huntington, 1964, p. 15, 39–46; Perlmutter, 1977, p. 1–6, 23–25].
Кроме того, профессиональное офицерство отличает корпоративный характер. Такие офицеры связаны друг с другом чувством солидарности, дорожат независимостью своего братства и стараются не допускать внешнего вмешательства. Не преданность правительству, а именно такие корпоративные интересы нередко служили основой мотивации в офицерской группе [Finer, 1988, p. 7, 41; Perlmutter, 1977, p. 1–6].
Ряд историков утверждает, что русская армия носила национальный или, по крайней мере, патриотический характер уже в XVIII в. Такое мнение встречается в советской историографии 1920-х, 1950-х и 1980-х гг., его придерживаются современные английские и американские историки, а также отдельные специалисты по истории Белой армии [Верховский, 1922, c. 48; Золотарев и др., 1984, c. 6, 39; Панков, 1957, c. 7; Штейфон, 1997, c. 319; Hartley, 2008, p. 184; Menning, 2002, p. 71].
Помимо этого, некоторые историки утверждают, что русские офицеры XVIII в. уже осознавали себя не просто дворянами, но офицерами, которые служат государству [Волков, 1993, c. 25; Hartley, 2008, p. 209]. Безусловно, нельзя поставить знак равенства между элементами такого самосознания и современным понятием профессионализма, поскольку считается, что в России XVIII в. в целом развитие корпоративной солидарности было очень слабым [Hartley, 2008, p. 52; Keep, 1985, p. 270] 1.
В период от Французской революции до 1812 г. французская, прусская, а также и русская армии расширялись, усложнялись и разделялись. Офицеры недворянского происхождения служили уже в эпоху Петра I, и их количество приумножилось при Екатерине II [Волков, 1993, с. 56; Keep, 1985, р. 240]. Конечно, повысился и уровень образования русских офицеров в целом.
Численность полевой пехоты увеличилась с 201 280 чел. (конец 1806 г.) до 362 200 чел. (1812 г.) [Бескровный, 1973, с. 12, 14]. Под руководством энергичного А. А. Аракчеева в первые 20 лет XIX в. русская армия подверглась масштабной реорганизации [Бескровный, 1973, с. 196–200; Гаврилов, 2008, с. 32; Коваленко, 2002; Сахаров, 1998, c. 30–32]. Дивизионная система впервые была введена в русской армии в 1806 г. [Бескровный, 1973, c. 13; Гаврилов, 2008, c. 31; Панков, 1957, c. 13]. Первые независимые инженерные части появились в 1809 г. [Коваленко, 2002, c. 48]. «Учреждение для управления Большой действующей армии», введенное в 1812 г., стало основой для общего руководства войсками [Бескровный, 1973, c. 133; Гаврилов, 2008, c. 38–39; Тиванов, 1993, c. 62]. Главный штаб был учрежден в 1815 г. [Бескровный, 1973, c. 199; Коваленко, 2002, c. 53]. Не позже 1819 г. русская армия уже была составлена, как армии многих стран XX в., по иерархической структуре из корпусов, дивизий, бригад, полков, батальонов или дивизионов, рот или эскадронов 2.
В русской регулярной армии начиная с эпохи Петра I придавалось особое значение военному обучению офицеров [Волков, 1993, c. 50; Панков, 1957, c. 5; Keep, 1985, p. 95–96, 118, 201], которое развивалось на протяжении всего XVIII в. До конца столетия открылось много новых военных училищ [Hartley, 2008, p. 59–60; Keep, 1985, p. 232, 243]. Тем не менее, в начале XIX в. армия всё еще нуждалась в образованных офицерах [Бескровный, 1973, c. 129– 130]. В конце 1810-х гг. командир 6-го корпуса генерал-лейтенант И. В. Сабанеев и начальник главного штаба 2-й армии генерал-майор П. Д. Киселев, осознавая необходимость в организации юнкерских корпусов, сами учредили военные образовательные училища для молодых офицеров в своей армии [Давыдов, 1994, c. 66, 74; Заблоцкий-Десятовский, 1882, c. 50, 221]. Постепенно появился слой так называемой «военной интеллигенции» [Keep, 1985., p. 244–250]. Эта концепция схожа с концепцией формирования «военных профессионалов». Мы попытаемся ответить на вопрос: являлись ли русские офицеры времени декабристов военными профессионалами?
Если мы обратимся к приказам по 2-й армии во времена декабристов, то заметим, что штаб армии считал офицеров военными профессионалами и потому принуждал офицеров вести себя с нижними чинами в качестве попечителей. На них возлагалась полная ответственность за нижние чины: т. е. командиры должны были заботиться о том, чтобы было как можно меньше больных, умерших и беглых солдат. К тому же командиры несли ответственность за материальные условия ежедневной жизни нижних чинов, поэтому им нужно было заниматься поиском заработка для солдат и увеличивать солдатские артельные суммы [Ма-цумура, 2019]. Если офицеры, не выполняя свой долг, наоборот, вредили жизни или собственности нижних чинов, то таких офицеров, даже дворянского происхождения, наказывали.
Конечно, офицеры также бывали строго наказаны, если они нарушали дисциплину, игнорировали распоряжения своих начальников, сопротивлялись им, ругали их оскорбительными словами или, еще хуже, применяли насилие против них. Особенно часто подвергались суровым наказаниям обер-офицеры. Следовательно, офицеры в военной службе не могли так свободно поступать, как помещики в своих поместьях.
Недавно О. И. Киянская привела несколько примеров наказаний офицеров в 3-м корпусе 1-й армии в период деятельности декабристов. В этих случаях офицеры из дворян были разжалованы в рядовые именно за растрату солдатских или казенных сумм, игнорирование распоряжений начальников, сопротивление им и грубость или за простые нарушения дисциплины [Киянская, 1997, с. 56–57]. На страницах приказов по 2-й армии того же времени также встречается много случаев разжалования офицеров.
Одним из наиболее известных примеров наказания офицера тогдашней 2-й армии является случай со штабс-капитаном Рубановским Одесского полка (1822 г.). Командир этого полка подполковник Ярошевицкий был грубым человеком, и поэтому «от штаб-офицера до последнего солдата» весь полк ненавидел его. Офицеры полка кинули жребий, кому разделаться с этим несправедливым командиром, и жребий пал на Рубановского. Во время смотра начальника 19-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Корнилова Рубановский, стоя на своем месте, принял очень свободную позу и даже разговаривал. Заметив такое недостойное офицера поведение, Ярошевицкий подскакал к нему. Тогда Рубановский вышел из рядов, стащил Ярошевицкого с лошади и избил его перед дивизионным начальником. В качестве возмездия за этот поступок Рубановский был лишен всех чинов, орденов и даже дворянства и сослан навечно в Нерчинские рудники [Заблоцкий-Десятовский, 1882, с. 174–175; Федоров, 1963, c. 178–179] (Воспоминания Н. В. Басаргина, 1982, c. 24).
Далее мы приведем несколько заключений военных судов, в которых офицеры дворянского происхождения подвергались суровым наказаниям, нашедших отражение в приказах по 2-й армии и материалах военного суда той же 2-й армии во времена декабристов 3.
В первую очередь это случаи поручика Дейненко и подпоручика Ериновского 29-го егерского полка, имевшие место не позднее января 1819 г.
Поручик Дейненко и подпоручик Ериновский во время передвижения из города Балты в свои квартиры с ротами бросили в пути 6 нижних чинов, которые лишились жизни от сильного холода и изнурения переходом. Кроме того, Дейненко оказался виновен в том, что он выступил с ротой уже после захода солнца без предварительного разрешения полкового командира.
Сначала главнокомандующий 2-й армии генерал П. Х. Витгенштейн приказал только поместить их под арест на срок более семи месяцев из тех соображений, что они совершили свой проступок без всякого злого умысла, исключительно по молодости и неопытности, и что до этого момента они служили усердно 4. Но такой снисходительный приговор вызвал негативную реакцию Александра I. Император по силе высочайшего указа собственноручным подписанием отменил приговор Витгенштейна и снова предписал разжаловать Дейнен-ко и Ериновского в рядовые до выслуги 5. Судебное дело по этому случаю хранится в Российском государственном военно-историческом архиве, однако нижние половины всех листов этого дела загрязнены, их невозможно прочитать 6.
Второй случай штабс-капитана Панаиодера 8-го, командира 40-й подвижной инвалидной роты, датирующийся апрелем 1819 г.
В праздник Святой Пасхи командир 40-й подвижной инвалидной роты штабс-капитан Па-наиодер издевался над рядовым Петрасюком, который, будучи пьян, грубо ответил командиру. Придя в ярость, Панаиодер приказал унтер-офицеру Муляру арестовать и привести Пет-расюка под караулом к ротной гауптвахте. Муляр, выходец из крестьян, отличный солдат, был произведен в унтер-офицеры спустя 5 лет службы и имел воинские знаки отличия и ордена. Но Петрасюк упорно сопротивлялся, нанес Панаиодеру удар по ноге и перебил ее. Наконец Муляр с помощью писаря и денщика арестовал Петрасюка и привел к гауптвахте. Но по дороге туда Муляр, встретив двух рядовых той же роты, отдал им арестанта, а сам пошел по своим делам. После этого Петрасюк вырвался из рук двух сопровождающих, ударил их так, что они упали на землю, и ушел. Но эти двое рядовых не сообщили о бегстве Петра-сюка ни Панаиодеру, ни Муляру. По прошествии некоторого времени Петрасюк появился в квартире Панаиодера, где тот лежал в постели. Петрасюк, имея в руках кол, угрожал смертью Панаиодеру и напал на него. Панаиодер же, обороняясь, схватил перочинный нож, нанес удар Петрасюку по шее. Петрасюк от сильного кровотечения скончался 7.
Военный суд признал смерть Петрасюка результатом необходимой обороны Панаиодера, но из-за бездействия начальства («слабого командования») постановил отправить его в отставку от службы и пройти церковное покаяние. При этом Муляр, признанный главным виновником этого происшествия, был лишен знаков отличия и медали, полученной им в память 1812 года, и разжалован в рядовые. Два рядовых конвоира были наказаны палками перед ротой 8.
Третий пример с поручиком Фроловым Уфимского пехотного полка произошел в мае – июле 1820 г.
Поручик Фролов был переведен по высочайшему указу 24 августа 1819 г. из Таврического гренадерского полка в Уфимский пехотный полк. Тогда этот полк квартировал в городе Ста-родубе Черниговской губернии. Но командир Уфимского полка подполковник Добровольский 4-й не имел долгое время известий о местопребывании Фролова. 21 февраля 1820 г. Добровольский сделал запрос командиру Таврического гренадерского полка об этом и получил от него сообщение от 8 марта, что Фролов отправлен из полка 10 ноября 1819 г. и всё это время пребывал в Калуге. В силу этого Добровольский 24 марта 1820 г. написал калужскому полицеймейстеру о необходимости явки Фролова в его полк. На что полицеймейстер ответил, что Фролов уже выбыл из Калуги 9.
15 мая 1820 г. штаб Уфимского полка и Добровольский прибыли в Винницу для размещения в лагерях. Тогда поручик Фролов явился перед Добровольским. Когда Добровольский спросил, почему он не появлялся такое долгое время на своем новом месте службы и не болен ли он, то Фролов ответил, что он не был болен, но по своей собственной воле проводил время в кругу родственников. После этого ответа Добровольский приказал Фролову явиться в роту, но он не исполнил этого приказа и остался в Виннице, несмотря на отбытие полка в лагерь. На следующий день Фролов прислал рапорт, что он всё же был болен 10.
Получив такой сомнительный рапорт, Добровольский немедленно предписал командиру 1-го батальона майору Альбедилю и старшему штаб-лекарю Корицкому освидетельствовать Фролова. По их свидетельству оказалось, что Фролов ложно рапортовал себя больным. Кроме этого, казенный денщик Фролова показал под присягой, что Фролов, проживая в городе Виннице, ежедневно прогуливался по городу и раза три отъезжал за город к знакомым 11.
По окончании же лагерного периода, 6 июля 1820 г. Добровольский сам увидел, как Фролов ходил по Виннице в штатском костюме. Добровольский послал адъютанта отыскать Фролова и приказать явиться к нему. Адъютант, найдя его в саду, объявил приказание. Фролов, одетый не в мундир, а в сюртук, и с тростью в руке во второй раз явился на квартиру к Добровольскому и другим военнослужащим полка. Тогда в квартире Добровольского, кроме него, присутствовали командир 1-го батальона майор Альбедиль, подполковник Булгарин, дежурный по караульным капитан Аксютин и др. Добровольский сказал Фролову, что он сам заметил его в городе, и это было доказательством его хорошего здоровья, и порицал его за ношение сюртука и трости. Фролов перед начальством произнес, что ему стыдно было служить в Уфимском полку, ругал Добровольского непристойными бранными словами и потом вышел из комнаты 12.
Добровольский приказал капитану Аксютину арестовать Фролова. Фролов, услышав такие слова, вернулся бегом в квартиру Добровольского и попытался нанести ему удар тростью по голове. Но Аксютин и его солдаты воспрепятствовали этому. Они схватили Фролова и отвели его на гауптвахту 13.
За уклонение от службы и дерзость против полкового командира подполковника Добровольского Фролов лишился чинов, дворянского звания и был записан в рядовые без выслуги, с определением в дальние сибирские гарнизонные батальоны 14.
Четвертая история произошла в июле – августе 1822 г. с поручиком Стаматьевым, служившим в Пермском пехотном полку.
Рядовой 9-й мушкетерской роты Пермского пехотного полка Якимов совершил побег в июле 1822 г. В это время проходил смотр полка высшим начальством, поэтому ротный командир поручик Стаматьев не рапортовал начальству о происшествии. Но, когда он был занят подготовкой к выступлению из лагеря и возвращению на квартиры, беглец Якимов был пойман и доставлен в полковой штаб. В результате поручик Стаматьев не успел сообщить начальству о бегстве рядового Якимова до его доставления в штаб. Но и полковой адъютант Пермского пехотного полка подпоручик Жеховский не доложил полковому командиру подполковнику Мартынову об аресте Якимова, скрыв его поступок, отправил его непосредственно к поручику Стаматьеву 29 июля 15 . Благодаря тому что Жеховский не доложил, Стаматьев не был наказан до того времени за недонесение о бегстве Якимова. Однако, разгневавшись на беглеца, Стаматьев противозаконно и самовластно приказал его наказать розгами и палками и содержать под присмотром на ротной гауптвахте, которая была в простом сарае, нанятом у местного крестьянина. Но 6 августа караульные нашли его там мертвым. Стаматьев, боясь взыскания, решил скрыть этот несчастный инцидент. Пока фельдфебель роты Михайлов отсутствовал по причине командировки, Стаматьев приказал солдатам за- рыть мертвое тело Якимова в землю в лесу в селении Уяринцы 16. Но он упустил из виду, что, когда сообразительный Михайлов возвратился, он мог заметить отсутствие Якимова и доложить начальству об этом без ведома Стаматьева.
Так и произошло. После командировки Михайлов сразу узнал об отсутствии Якимова и, естественно, донес об этом командиру 3-го батальона подполковнику Дровецкому. Между тем 9 августа 1822 г. крестьянские мальчики из Уяринцев нашли труп, поскольку их собака выкопала из земли человеческие останки. Они дали знать об этом судебному приставу. В тот момент подполковник Дровецкий находился в этом селении, и тотчас преступление Стамать-ева было обнаружено 17.
Военный суд признал Стаматьева виновным в недонесении начальству о побеге рядового Якимова, самовольном наказании и доведении до смерти, а также тайном захоронении его тела. Стаматьев был лишен всех чинов и дворянского звания и разжалован в рядовые. Полковой адъютант Пермского полка подпоручик Жеховский также был отдан под суд за недонесение своему начальству об аресте рядового Якимова, но мы не смогли найти приговор по его делу среди приказов 2-армии за 1824 и 1825 гг. 18
Последний, пятый случай с батальонным командиром Томского полка майором Фон-Гор-стеном, имел место в 1823–1824 гг.
В 1823 г. Фон-Горстен и его казенный денщик Балыченко встречались с управляющим близлежащего имения по пути возвращения с батальонной квартиры в местечке Дунаевцы. Майор с управляющим пили холодный пунш с ромом и водку в корчме, но управляющий незаметно ушел. Фон-Горстен, заметив отсутствие своего собеседника, вышел из себя. А за то, что его денщик Балыченко не усмотрел, как уехал управляющий, избил его кулаками, потом, схватив за уши руками и приподняв кверху, повалил на землю, пинал в бок и по голове так, что разбил лицо. Балыченко убежал в местечко Дунаевцы. Там командир другого батальона того же полка майор Лапа нашел Балыченко раненым, с разбитым и изувеченным лицом. Лапа отправил его в лазарет. Балыченко находился там с 20 по 24 октября 1823 г. Вслед за тем Балыченко обратился к полковому командиру, полковнику Живоглядову с жалобой на майора Фон-Горстена 19. Но Живоглядов не провел надлежащего расследования.
В июне 1824 г. Балыченко и другой денщик майора Фон-Горстена Филиппов явились к командовавшему 6-м корпусом генерал-лейтенанту С. Ф. Желтухину и снова подали жалобу на Фон-Горстена о жестоком обращении с ними майора. По их показаниям, Фон-Горстен очень часто избивал их за незначительные провинности 20.
По результатам расследования оказалось, что Фон-Горстен регулярно избивал унтер-офицеров и солдат за любой мелкий проступок, бил кулаками по зубам, и у одного из них вышиб зубы. Почти все младшие офицеры его батальона тоже были жертвами самоуправства Фон-Горстена. А двух офицеров он заставлял считать плеточные удары при наказании нижних чинов вместо унтер-офицера 21.
В конце концов два денщика Фон-Горстена были переведены в Тобольский пехотный полк, и не денщиками, а простыми солдатами. Суд решил снять Фон-Горстена с должности батальонного командира, не давать ему заново никакого денщика и пока не доверять ему командование никакой частью. При этом получил выговор и полковой командир Живоглядов, который, зная жалобы денщика на Фон-Горстена, не провел вовремя расследование. На семь дней также были арестованы два капитана, которые, зная о незаконных наказаниях нижних чинов Фон-Горстеном, не сообщили начальству об этом 22.
Как было сказано выше, в декабристскую эпоху русская армия уже превратилась в современную и огромную государственно-бюрократическую систему. Штаб армии требовал от офицера быть и военнослужащим, и профессионалом. Свидетельством этого являются строгие требования штаба к офицерам по попечительству над нижними чинами и наличие большого количества жалоб нижних чинов на ненадлежащее поведение офицеров. С другой стороны, проанализированный нами материал показывает, что в это время во 2-й армии были распространены случаи самоуправства со стороны офицеров по отношению к нижним чинам. Отразившиеся в источниках прецеденты свидетельствуют, что офицеры действовали, пользуясь своим положением и не сознавая своей ответственности как военных профессионалов перед потребителями их услуг (т. е. перед Российским государством), и в этом произволе были похожи на помещиков. Вышеприведенные наблюдения позволяют предположить, что процесс профессионализации русского офицерства в декабристскую эпоху был еще далек от завершения.
Список литературы Преступления и наказания русских офицеров в эпоху декабристов
- Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XIX веке: Военно-экономический потенциал России. М.: Наука, 1973. 616 с.
- Верховский А. И. Очерк по истории военного искусства в России XVIII и XIX вв. 2-е изд. М.: Высш. воен. ред. совет, 1922. 265 с.
- Волкова И. В. Русская армия в русской истории: армия, власть и общество. Военный фактор в политике Российской империи. М.: Эксмо, 2005. 639 с.
- Волков С. В. Русский офицерский корпус. М.: Воениздат, 1993. 367 с.
- Гаврилов С. В. Эволюция системы материального снабжения русской армии в первой четверти XIX века. СПб.: ВАТТ, 2008. 290 с.
- Давыдов М. А. Оппозиция его величества. М.: АСТ, 1994. 189 с.
- Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время: В 4 т. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1882. Т. 1. 422 с.
- Золотарев В. А., Межевич М. Н., Скородумов Д. Е. Во славу отечества Российского. М.: Мысль, 1984. 335 с.
- Киянская О. И. Южный бунт: Восстание Черниговского пехотного полка, 9 декабря 1825 - 3 января 1826. М.: РГГУ, 1997. 188 с.
- Коваленко А. Ю. О роли военного министерства в системе управления русской армией в первой четверти XIX в. // Вестник Моск. ун-та. Серия 8: История. 2002. № 2. С. 43-54.
- Мацумура Т. Экономические связи между офицерами и нижними чинами во 2-й армии в эпоху декабристов // Историческая память России и декабристы, 1825-2015. СПб., 2019. С. 268-277.
- Панков Д. В. Русская регулярная армия // Развитие тактики русской армии XVIII в. - начало XX в. М., 1957. С. 3-30.
- Сахаров А. Н. Александр I и Аракчеев // Отечественная история. 1998. № 4. С. 24-39.
- Тиванов В. В. Финансы русской армии (XVIII век - начало XX века). М.: ВФЭФ при ГФА, 1993. 256 с.
- Федоров В. А. Солдатское движение в годы декабристов: 1816-1825. М.: Изд-во МГУ, 1963. 208 с.
- Штейфон Б. Воин Христов // Российский военный сборник. М., 1997. Вып. 12: Христолюбивое воинство: Православная традиция Русской Армии. С. 319-326.
- Finer S. E. The Man on Horseback. London, Routledge, 1988, 342 p.
- Hartley J. M. Russia: 1762-1825: Military Power, the State, and the People. London, Praeger, 2008, 318 p.
- Huntington S. P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge, Belknap Press, 1964, 560 p.
- Keep J. L. H. Soldiers of the Tsar: Army and Society in Russia 1462-1874. Oxford, Oxford Uni. Press, 1985, 432 p.
- Menning B. W. The Imperial Russian Army, 1725-1796. In: Frederick W., Higham R. (eds.). The Military History of Tsarist Russia. New York, Palgrave Macmillan, 2002, pp. 47-76.
- Perlmutter A. The Military and Politics in Modern Times. New Haven, London, Yale Uni. Press, 1977, 335 p.