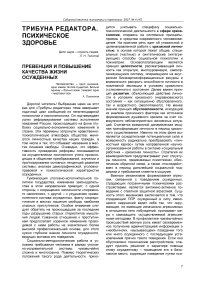Превенция и повышение качества жизни осужденных
Автор: Семке В.Я.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Трибуна редактора. Психическое здоровье
Статья в выпуске: 4 (47), 2007 года.
Бесплатный доступ
ID: 14295217 Короткий адрес: https://sciup.org/14295217
Текст ред. заметки Превенция и повышение качества жизни осужденных
Человечество - одно дыхание, одно живое теплое существо. Больно одному - больно всем. Умирает один - мертвеют все.
А. Платонов
Дорогой читатель! Выбранная нами на этот раз для «Трибуны редактора» тема завершает годичный цикл сообщений по пенитенциарной психологии и психопатологии. Он подтверждает успех реформирования системы исполнения наказаний России, происходящего на фоне глубоких социально-экономических изменений в стране. Эти перемены затронули нравственнопсихологическую атмосферу общества: меняются личностные качества наших граждан, в том числе и тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. Очевидно, что эффективность проведения реформы основывается на осуществлении постоянного учета происходящих в обществе преобразований, изучении и прогнозировании основных тенденций развития системы, анализе демографической, уголовноправовой и психологической характеристик осужденных.
Гуманизация уголовно-исполнительной политики государства, изменение законодательства в этом направлении приводит, с одной стороны, к сокращению численности «тюремного населения», с другой - к ухудшению криминогенного состава осужденных, факту сосредоточения в местах лишения свободы наиболее опасных преступников. Особое внимание следует обратить на произошедшее за последние годы разрушение старых стереотипов мышления людей. Гуманное отношение к преступникам предполагает коренное изменение проводимой с ними работы на значительно более высокой профессиональней основе, для этого нужно глубокое знание личности осужденного, ведущих мотивов его поведения.
Социально-методологическая работа в условиях пребывания человека в рамках уголовно-исправительной системы чрезвычайно сложна и многогранна. Помимо теоретических положений такого рода деятельности, прихо- дится учитывать специфику социальнопсихологической деятельности в сфере кризи-сологии, опираясь на системные принципы, приемы и средства современного человековедения. На практике речь идет об уникальной и целенаправленной работе с кризисной личностью, в основе которой лежат общие, специальные (частные) и синтетические (интегрирующие) способы социальной психологии и психиатрии. Основополагающим является принцип целостности, рассматривающий личность как открытую, многоуровневую, самоорганизующуюся систему, опирающуюся на внутренние биоэнергоинформационные ресурсы и возможности раскрыть способности личности в позитивной эволюции в условиях кризисного («стесненного») состояния. Далее важен принцип развития, объясняющий действие личности в условиях кризисного (неравновесного) состояния - как ситуационно обусловленного, так и возрастного (эволютивного). Не менее значим принцип обусловленности, исходящий из анализа причинного фактора как источника формирования душевного кризиса за счет совокупности неблагоприятных жизненных ситуаций. Считается возможной динамическая мощная трансформация личности в период кризисного существования. Именно на этом фоне выявляется созидательная потенциальная сила и возможность радикально преобразовать «личностный каркас» путем направленной научноорганизованной работы в системе «социальный работник - кризисная личность». Стратегия их взаимодействия предусматривает учет структуры личности, применяемых психотехник, обеспечение обратной связи, а также «последействие» в период дальнейшей социальной поддержки и пребывания клиента в социуме.
Важным механизмом формирования агрессии, связанной с поведением осужденных, страдающих пограничными психическими расстройствами, является виктимно-активное поведение с ответной защитной агрессией. Сущность этого механизма заключается в том, что страдающий ППР осужденный в силу имеющихся нарушений ведет себя так, что окружающие, не имеющие изначально агрессивных в отношении него побуждений, принимают меры к самозащите, осуществляемой агрессивными методами. В профилактике чрезвычайных происшествий важную роль имеет своевременное получение администрацией информации о «необычном», «вызывающем» поведении того или иного осужденного с последующим установлением причин такого поведения. Если оно обусловлено психическим расстройством, следует принять решение о характере помощи этому осужденному - помещение его в безопасное место, коррекция поведения путем пси- холого-воспитательных мер, психофармакологическая поддержка, госпитализация.
С точки зрения профилактики пенитенциарной преступности важно, чтобы у данной категории лиц не происходило интериоризации как антисоциальных, так и социально-одобряемых ценностей. Поведение их ситуационно обусловлено, слабо опосредовано. Это может рассматриваться как резерв для реализации воздействия на субъекта со стороны администрации: необходимо ограничить его контакты с лидерами отрицательной направленности, принять меры к уменьшению возможности участия его в неформальных группировках осужденных, в доступной форме информировать о последствиях (лично для него – механизм персонификации ответственности) совершения нарушений и преступлений, содействовать реализации потребности в признании конструктивными с точки зрения воспитательного процесса способами.
Специфической для уголовно-исполнительной системы проблемой является пенитенциарный стресс . И. Ф. Обросов (2004) указывает, что в местах лишения свободы, наряду с общеизвестными психогенными факторами, существует специфический и широкий набор патогенных микросоциальных условий, которые предъявляют повышенные требования к адаптационным ресурсам осужденных с личностной патологией. К ним относятся атрибуты территориальной и социальной изоляции; сенсорная депривация; ограничение в удовлетворении потребностей; жесткая режимная регламентация жизни, быта и поведения осужденных; вынужденное проживание в однополом окружении; высокая концентрация лиц с криминальной направленностью и антигуманными установками; своеобразие интерперсональных отношений и субкультуры контингента осужденных.
В психопрофилактической работе акцент делается на установление психологически устойчивых и демократических отношений между персоналом и осужденными, где приоритет отдается психотерапевтическим и психологопедагогическим методам воздействия. Психокоррекционная работа направлена на разрешение внутриличностных и межличностных конфликтов с использованием методов психодрамы и социодрамы; также эффективно применение аутотренинга и эмоционально-волевой тренировки с целью снятия психологического напряжения и выработки устойчивости к стрессам. Важную роль в изучении и предупреждении суицида играет «психологическая аутопсия», которая предполагает тщательное исследование и групповое обсуждение каждого конкретного случая совершения суицида. Для осужденных, пребывающих в состоянии острого психологического кризиса с суицидальными тенденциями, необходимо организовать «кри- зисную интервенцию» в условиях медицинской части ИУ или больницы.
Процесс реабилитации в условиях «кризисного стационара» является многоэтапным и включает в себя: первую стадию с усиленной поддержкой пациента, с установлением теплого, партнерского отношения с персоналом; устранение психической напряженности, тревожности, внутреннего беспокойства, чувства безысходности; в последующем работа направлена на осознание пациентом рациональных путей выхода из затруднительной ситуации, переключения с чисто эгоистической оценки своего состояния на необходимость поиска широких социальных контактов. Второй этап – переход от пассивной, подчиняемой позиции к активной партнерской с развитием чувства убежденности в самостоятельном обнаружении выхода из затруднительного положения. Третий этап – разрешение всех существовавших раннее конфликтов, закрепление адаптационных механизмов с применением групповых и индивидуальных методов психотерапевтического воздействия. В целом реализация указанных мероприятий, включающих в себя многостороннее содействие лицам с суицидальным поведением, позволит профилактировать аутоагрессию, нормализовать межличностные отношения в микросоциуме осужденных, сформировать у них стрессоустойчивость.
Пристальный интерес к различным аспектам человеческого существования имеет многовековую историю, которая изобилует массой противоречивых теорий, гипотез, концепций и практических находок, позволивших на современном этапе человековедения вычленить самостоятельную научную дисциплину – персо-нологию (учение о здоровой и больной личности). Она является научно-психологической основой развития духовной педагогики , суть которой в свое время изложил Л. Н. Толстой: «Есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие. И есть только две добродетели: деятельность и ум». В новом, третьем тысячелетии осуществляется эвристический поиск теорий, прибавляющих новые знания о поведении человека. По-прежнему актуально звучат страстные слова академика В. М. Бехтерева (1911): «Усилия, направляемые против основного зла нашей действительности, должны быть делаемы не только даже в интересах нервно-психического здоровья населения, … но и во имя высших общечеловеческих идеалов, во имя тех нравственных норм , которые не позволяют человеку попирать права других, которые устраняют рознь и ненавистничество между людьми и которые ведут человечество к единению и братству на почве общего равенства, взаимопомощи и уважения личности».
Мультидисциплинарный подход в клинической персонологии определяется её связью с педагогикой, психологией, социологией и философией, что облегчается системным использованием взаимосвязанных методологических подходов – эпистемологического, экстранозоло-гического, эпидемиологического, этиопатогене-тического, экологического, этнографического, эволюционного (онтогенетического), эниологи-ческого, экономического, этического и эстетического. В качестве одного из новых компонентов клинико-динамической парадигмы современной персонологии нами предложена модель оценки психического здоровья населения в виде континуума – от здоровья как всецелодоминирующего статуса к напряжению приспособительных механизмов (психоадаптационные состояния) и последующему возможному «срыву» адаптации (психодезадаптационные состояния), далее – к клинически развернутым формам (невроз, расстройство личности), а затем – к затяжным состояниям (развитиям).
Социальная работа позволяет увидеть весь спектр условий, необходимых для помощи клиенту. Институт пенитенциарной социальной работы важен еще и потому, что зачастую человек, находящийся на воле, может решить свою проблему путем обсуждения ее с различными специалистами, к которым он может обратиться в любой момент, как только этого пожелает. Осужденный в силу существенного ограничения своих прав и свобод просто не имеет возможности обратиться к кому-либо за помощью. Таким образом, социальная работа в пенитенциарной системе играет очень важную роль в обеспечении необходимыми условиями людей, находящихся в местах лишения свободы.
Практические проблемы пенитенциарной психологии базируются на теоретических задачах. Например, раскрытие психологических механизмов исправления и ресоциализации осужденных – задача теоретическая. Важно выяснить, как отражаются в сознании лиц, подвергшихся уголовному наказанию, социальная изоляция, включение их в новые виды жизнедеятельности и как на этой основе у них изменяются социальные установки, ценностные ориентации, черты характера. Это поможет разработать практические вопросы организации воспитательного процесса в исправительных учреждениях. В задачах учреждений и органов, исполняющих наказания, на ближайшую перспективу предусматривается внедрение новых форм и методов воздействия на осужденных за счет укрепления психологической службы, профилактики противоправного поведения осужденных и формирования здоровых отношений среди них. Развитие психологического направления в деятельности этих учреждений признано приоритетным.
На смену традиционно сложившейся в системе ИУ политико-воспитательной работы пришли новые методы воздействия: нравственнорелигиозные, досуговые, идивидуальный и кооперативный труд. Проблема косвенного воздействия на личность «малой» группы остается актуальной для пенитенциарной психологии, поскольку любое воздействие на индивидуума соотносится с групповыми мнениями и убеждениями. Реализация идеи гуманизации исправительных учреждений и все большее осознание значимости психолого-педагогических методов воздействия на осужденных как решающего условия достижения главной цели – их исправления – тесно связывают пенитенциарную психологию с пенитенциарной педагогикой. По-старославянски «наказание» означает «научение», и наказать – значит не только лишить свободы, но еще и научить… Научить быть терпимыми, ответственными, творческими.
Воспитательная работа должна быть направлена на формирование и укрепление у осужденных стремления к общественно полезной деятельности, соблюдению требований закона и других принятых в обществе правил поведения, повышение и дальнейшее развитие знаний, общеобразовательного и культурного уровней. Воспитательная работа с осужденными организуется в индивидуальных, групповых и массовых формах на основе психологопедагогических методов. Закрепление в Законе таких методов отвечает не только требованиям времени, но и потребностям практики.
Задачами психологического обеспечения воспитательной работы являются разработка и внедрение в практику научно обоснованных методов, программ психодиагностики и ресоциализации лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В штаты исправительных учреждений введены должности психологов. Психологические лаборатории призваны разрабатывать и внедрять психологические методики изучения личности и групп осужденных, методы дифференцированного воздействия на индивидуальное и групповое поведение лиц, находящихся в исправительных учреждениях, на ресоциализацию, прогнозирование и предупреждение негативных явлений в местах лишения свободы.
Поскольку существуют разные по многим характеристикам правонарушители, то и способы воздействия на них тоже должны быть разнообразными. При дифференциации карательно-воспитательного процесса сейчас, возможно, как никогда ранее, следует ориентироваться на психолого-педагогическую классификацию осужденных, а не только на характер и опасность совершенного преступления. Нельзя считать кару как цель наказания, ее следует рассматривать как одно из средств, способствую- щих исправлению осужденных. Если кара не подчинена воспитательной цели, она теряет свое главное назначение. В этой связи одной из актуальных и острых проблем остаются нравственно-этические взаимоотношения между осужденными и сотрудниками исправительных учреждений, которые нельзя ограничивать лишь формально-юридическими рамками. Нравственно-этические основы исполнения наказания должны навсегда войти в качестве составной части нашей пенитенциарной науки и практики. В центре ее должны быть проблемы взвешенного сочетания кары и воспитания, принуждения и убеждения, требовательности и доверия, полного отказа от авторитарноадминистративных способов воздействия на осужденных.
Искоренение насилия среди осужденных составляет трудную задачу – точно такую же, как и ликвидация преступности. Однако вполне реально снизить его уровень, уменьшить число наиболее тяжких преступлений против личности. Сделать это можно в ходе реорганизации исправительной системы в стране, а также проведения специальных мероприятий, нацеленных именно на блокирование причин, порождающих агрессию среди лишенных свободы.
Успешное предупреждение насилия среди осужденных возможно при условии целенаправленного обучения сотрудников исправительных учреждений способам и приемам выявления, изучения и разрешения конфликтов среди преступников. Для этого в учебных заведениях МВД РФ, готовящих специалистов для работы в местах лишения свободы, необходимо разработать теорию пенитенциарной конфликтологии с тем, чтобы преподавать соответствующую дисциплину слушателям. Возможно, что названная дисциплина будет создана в рамках курса социальной психологии для исправительных учреждений. Поскольку среди осужденных 20—25 % страдают различными психическими аномалиями, столь же необходимым представляется обучение основам пенитенциарной психиатрии. Преступность в местах лишения свободы, в том числе насильственная, ее причины и механизмы, личность виновных, формы и методы борьбы с ней в целом должны изучаться пенитенциарной криминологией.
Ушедший в недавнее прошлое двадцатый век, безусловно, являет собой выдающуюся и отличительную веху в истории развития человечества. Речь идёт о поразительных, незабываемых преобразованиях в социальной, технической и научной жизни общества, сопровождавшихся сложными, непредсказуемыми катаклизмами идеологической ломки, хаосом разрушений, крахом целых систем и теоретических достижений. Это создало весьма болезненные сдвиги в нравственных и интеллектуальных показателях общественной среды, определяющих диссоциацию и дисгармонию в интеллектуальных отношениях на различных социальных уровнях, отчужденность, непонимание между людьми, отдельными общественными группами и социальными стратами. Как выход из создавшегося кризисного состояния в общественном сознании всё более уверенно формируется стремление к преодолению массового гомици-да, угрозы «атомной» смерти, этнических столкновений, индивидуальных и общественных душевных кризисов путем активного культивирования взаимопонимания и взаимоподдержки, крепнущей эмпатии, веры в светлое будущее.
Во многих сферах общественнополитической жизни сохраняются противоречивые психологические устремления конкретного человека или отдельных социальных групп. Имеется в виду столкновение трагических и индивидуалистических начал, переживания прекрасного и нигилистического в окружающем мире, чувства красивого и безобразного, холодности (отчужденности), сопереживания (эмпатии) и привязанности, любви, неожиданно вдруг преображающихся в свою противоположность. Именно в этой «зоне» противоречивых конфликтов таится основа противоправных действий, корень личностных трагедий, из которых человек может выйти преобразованным и обновленным или же, напротив, ещё более озлобленным, агрессивным , антисоциально настроенным и оппозиционным. Здесь бывает очень важным разобраться в причинах и горестных последствиях столь изломанного жизненного пути.
Проблема нравственного совершенствования человека является главной во всех программах обновления общества в XXI веке, как и повышение качества жизни людей. Вне духовного начала становятся бессмысленными все те высокие технологии и информационные «прорывы», которые происходят на наших глазах в последние годы в высокоразвитых странах и континентах, в равной степени подверженных негативным социальным и экономическим воздействиям. На разных полюсах человечества, в различных климатогеографических зонах должна осуществляться единая модель духовного становления человека третьего тысячелетия, базирующаяся на строгой «лестнице» духовно-телесных потребностей.
Противостояние разрушительным тенденциям в современном обществе (агрессивности, терроризму, межличностным конфликтам, отчуждению, эгоизму и т. п.) должно быть основано на единстве действий всех лиц, ответственных за поддержание и укрепление психического здоровья нации. Однако оно по-прежнему раздирается региональными и этническими проти- воречиями, корыстными устремлениями отдельных групп, заинтересованных в сбыте и распространении социально опасного «товара» (табака, алкоголя, наркотиков, азартных игр, сексуальных излишеств и т. п.), в материальном приросте своего легального, полулегального и нелегального бизнеса. Выход из тупиковой ситуации видится в переносе ответственности за грядущее психическое здоровье новых поколений на личность каждого россиянина, осознающего опасность саморазрушающего поведения, подстерегающего его в любой из фаз жизненного пути.
В последнее время предпринимаются заметные усилия по гуманизации условий пребывания в заключении, уже значительно отличающихся от широко известного нам из истории сурового образа жизни «во глубине сибирских руд», когда меняется сама система материального окружения, психологического отношения к осужденному. Предпринимаются попытки судопроизводства с призывами сделать процессы full and fair (полноценности и справедливости, с англ.), апробированные в печально известной тюрьме для террористов на Гуантаномо1. Они вызваны отчасти боязнью потери американцами «морального превосходства, которым они в течение долгого времени владели на мировой арене в качестве гарантов неколебимой справедливости в уголовном суде». Одна из целей успешной войны в правовом государстве с терроризмом – «завоевать сердца и умы не только союзников, но и врагов. Если ничего не изменится, мы потеряем даже друзей». Выход из предполагаемых ситуаций видится в строгом соблюдении этических принципов, правовых норм и правил поведения. Однако о какой гуманизации может идти речь, если изначально узники этого лагеря лишены своего имени, а обозначаются номерами клеток, в которые они заключены. Кстати, эти клетки построены из сплошных стальных листов, «не пропускающих ни дневного света, ни ночной темноты». Гладкая и холодная, как морг, она постоянно освещена электрическим светом и создана специально для того, чтобы подавить способность к мыслительной деятельности и «сломить остатки сопротивления». Стремясь на словах соблюдать стандарты международного права заключенных, администрация тюрьмы в Гуанта-номо стремится душевно подавить узника, создавая проблему неопределенности, неведомо-сти его судьбы: «Он не знает, когда отсюда выйдет и выйдет ли вообще», ему не на что надеяться. «Если знаешь длину тоннеля, – пишет автор книги, – сможешь выдержать темноту, расстояние и вонь». А заключенным на ост- рове не на что надеяться – расследование и судебный процесс не ведутся, перспектива не известна, им не ясно, каким путем преодолеть «последний рубеж» и где он этот «последний рубеж, отделяющий землю свободных людей от лагеря».
Репрессивная и закрытая система в тюремных условиях неизбежно вызывает ограниченный контакт с внешним миром, огромные различия в правах и полномочиях, строгие правила, использование силы, низкую степень индивидуальной ответственности. Вред от заключения вызван криминальным влиянием, эффектом «госпитализма», депрессией и суицидами, психозами, непримиримым антагонизмом, процессами деперсонализации, негативными параллельными процессами, когда сильный помыкает слабым, коррупцией и применением насилия без соответствующего разрешения, созданием предателей и свода собственных правил с поиском «козлов отпущения». Борьба с деструктивными тенденциями предусматривает ряд мер, в том числе поддержку взаимодействия между работниками тюрьмы и заключенными, повышение уровня безопасности в результате улучшения отношений, поддержку работников, противодействие коррупции и чрезмерному использованию силы, открытость и прозрачность действий, требование того же от работников тюрьмы, поддержание контактов с внешним миром, выделение «уязвимых» заключенных.
Перспектива формирования человека новой организационной структуры связана с несомненным и гармоничным преобразованием внутреннего и внешнего мира человека – безотносительно от места его пребывания и выраженности степени стеснения, ограничения свободы. На повестку дня встает важнейшая задача усовершенствования макро- и микросоци-альных условий онтогенетического развития человека с учетом его социального окружения. Глубоко прав Винченцо Марколонго (1990), провозгласивший: «В эру, в которую сейчас вступает человеческая семья, мы должны преодолеть барьеры, которые ещё разделяют нас. Потребность в мире и понимании между народами мира никогда ещё не была так велика, как сейчас. Мир может прийти только с пониманием». На современном этапе развития цивилизации следует обратиться к сокровищнице прошлой духовной жизни, чтобы сохранить её высоконравственные ориентиры, определить новые нравственные вехи на будущее.
Главный редактор В. Я. Семке