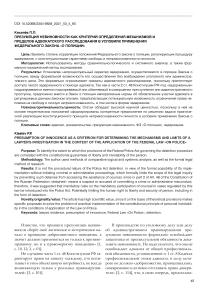Презумпция невиновности как критерий определения механизмов и пределов адвокатского расследования в условиях применения
Автор: Киселв Павел Петрович
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 4 (53), 2021 года.
Бесплатный доступ
Федерального закона «О полиции» Цель: Выявить степень корреляции положений Федерального закона о полиции, регулирующих процедуру задержания, с конституционными гарантиями свободы и неприкосновенности личности. Методология: Использовались методы сравнительно-логического и системного анализа, а также формально-юридический метод исследования. Результаты: Установлен непроцессуальный характер задержания, осуществляемого в порядке Закона о полиции, ввиду формальной возможности его осуществления без возбуждения уголовного или административного дела. Это формально ограничивает пределы адвокатского расследования, поскольку препятствует доступу такого задержанного к помощи адвоката. Так как в части 2 ст. 48 Конституции РФ под «задержанным» подразумевается именно подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления или административного проступка, предложено внести в Закон о полиции императивные нормы об обязательном участии адвоката в регулируемых данным законом случаях, предполагающих потенциальную возможность ограничения права человека на свободу и личную неприкосновенность, в том числе в форме задержания. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку в ней на основе теоретических положений сформулированы конкретные предложения по решению задачи практической реализации конституционного принципа неприкосновенности личности в условиях применения Закона о полиции.
Адвокат, доказательства, презумпция невиновности, фз "о полиции", задержание
Короткий адрес: https://sciup.org/140261849
IDR: 140261849 | DOI: 10.52068/2304-9839_2021_53_4_65
Текст научной статьи Презумпция невиновности как критерий определения механизмов и пределов адвокатского расследования в условиях применения
Известно, что принцип презумпции невиновности «берёт своё логическое и историческое начало в принципе добросовестного поведения, а значит должен применяться не только к противоправному, но и к правомерному поведению» [1, с. 10, 12; 3, с. 01].
Не случайно часть 1 ст. 48 Конституции РФ гарантирует право на защиту «каждому, кто испытывает в этом объективную потребность, не всегда возникающую только у реальных правонарушителей» [3, с. 101].
В производстве по уголовному делу или делу об административном правонарушении презумпция невиновности формально освобождает защитника от процессуальной обязанности доказывать невиновность. Но надо заметить, что она не освобождает адвоката от общей профессиональной обязанности, установленной п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, в силу которого он должен «добросовестно, принципиально, своевременно и активно отстаивать права доверителя» [3, с. 114], что, в свою очередь, предполага- ет активную роль адвоката и в процессе доказывания позиции доверителя, то есть собирание и представление им юридических доказательств или, по-другому, адвокатское расследование.
Европейский Суд по правам человека, подчёркивая, что «привлечение адвоката само по себе не обеспечивает эффективности помощи, которую он может оказать обвиняемому» [4], в 2017 году прямо указал на «возможность представления доказательств» как необходимую составляющую активной юридической защиты [5].
Следовательно, в отношении адвоката правильнее ставить вопрос не столько об обязанности, сколько о необходимости доказывать правомерность поведения доверителя в той степени активности, которая способна обеспечить достижение правозащитных целей адвокатской деятельности.
Действие презумпции невиновности «во всех отраслях права» [1, с. 13] неизбежно вызывает вопрос о том, насколько она обременяет адвоката обязанностью собирать доказательства невиновности доверителя вне процессуальных отношений либо до приобретения последним статуса «обвиняемого», то есть до процессуального момента, с которого он формально «не обязан доказывать невиновность».
Для ответа на поставленный вопрос необходимо обозначить практическую цель доказывания невиновности – освобождение доверителя от мер государственного принуждения (либо даже предупреждение их применения).
При такой постановке вопроса, на первый взгляд, адвокат-защитник не обязан доказывать правомерность поведения доверителя, не являющего подозреваемым или обвиняемым и поэтому не подвергаемого государственному преследованию.
Однако современное законодательство допускает случаи, когда мерам принуждения подвергаются лица, не подпадающие под определение «подозреваемый» или «обвиняемый».
Например, Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (далее – Закон о полиции) предусматривает задержание не только лиц, подвергаемых государственному преследованию, но и несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей (или специальных учреждений для несовершеннолетних), а также лиц, пропавших без вести, то есть тех, кто не совершал ни уголовных, ни административных правонарушений.
Так, в части 2 ст. 14 Закона о полиции, помимо бланкетных положений о задержании подозреваемых в совершении преступлений (п. 1) и лиц, в отношении которых ведётся производство по делам об административных правонарушениях (п. 5), также отдельно выделяется п. 4, закрепляющий право полиции «задерживать лиц, находящихся в розыске».
В свою очередь, полицейскому розыску подвергаются все лица, считающиеся пропавшими без вести, а также несовершеннолетние, самовольно ушедшие из семей или специальных учреждений (п. 12 ч. 1 ст. 12 Закона о полиции).
Допуская задержание лиц, не подвергаемых уголовному и административному преследованию, Закон о полиции нарушает системное единство с КоАП РФ, статья 27.3 которого регламентирует задержание только лиц, преследуемых за административные правонарушения, а также с УПК РФ, предусматривающим в статье 91 задержание подозреваемого в совершении преступления. Тем более, сообщение о безвестном исчезновении лица (в том числе несовершеннолетнего, покинувшего семью или специальное учреждение) проверяется в порядке, установленном ч. 1 ст. 144 УПК РФ, не предполагающей возможность задержания подозреваемого до возбуждения уголовного дела.
Следовательно, упомянутое выше задержание, осуществляемое на основании Закона о полиции, юридически является непроцессуальным, поскольку может быть произведено и без возбуждения уголовного или административного дела, что формально препятствует доступу такого задержанного к помощи адвоката, так как в ч. 2 ст. 48 Конституции РФ под «задержанным» подразумевается именно подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления или административного проступка.
Конституционный Суд РФ на этот счёт неоднократно подчёркивал: «Положения части 2 ст. 48 Конституции РФ (право на защиту) – хотя напрямую адресованы лишь обвиняемым в совершении преступления – в полной мере касаются ответственности не только в уголовном, но и в административном праве» [7], что, вкупе с традиционной позицией Конституционного Суда РФ о возникновении права физического лица на защиту с момента реального ограничения его свободы и личной неприкосновенности, включая свободу передвижения [6], неизбежно наталкивает на вывод о том, что любое фактически задержанное лицо вправе гарантированно получить помощь адвоката.
Учитывая, что безвестное исчезновение и самовольное покидание несовершеннолетним семьи или спецучреждения сами по себе ещё не образуют состав преступления и административного правонарушения, но по Закону о полиции формально являются достаточными для задержания обнаруженного в результате розыска лица, у последнего возникает потребность в собирании и представлении доказательств правомерности своего поведения как условия освобождения от дальнейшего применения мер государственного принуждения.
В правоохранительной практике иногда встречаются парадоксальные казусы, когда задержанный человек, в отношении которого подано заявление о безвестном исчезновении, вынужден доказывать отсутствие фактических оснований для его задержания.
В подобных случаях возникает необходимость в доказывании своей добросовестности вопреки презумпции невиновности, то есть заинтересованному лицу приходится самостоятельно собирать доказательства для справедливого разрешения сложившейся в результате его задержания антиправовой ситуации.
Поэтому устоявшаяся в теории права интерпретация презумпции невиновности, полностью освобождающей частное лицо (в его отношениях с государством) от обязанности (а значит, и необходимости) доказывать свою невиновность [2, с. 179], со временем стала по-новому восприниматься некоторыми учёными.
К примеру, В.М. Абдрашитов предлагает «положить в основу формулы презумпции невиновности логико-философский приём обоснования тезиса невиновности (добросовестности – praesumptio boni viri) путём опровержения его антитезиса через доказательство тезиса обратного содержания – виновности лица» [1, с. 10, 32].
Таким образом, в процессе доказывания невиновности всё чаще предлагается занимать активную позицию, отстаивание которой наиболее эффективно может обеспечить институт адвокатского расследования, поскольку адвокат является профессиональным субъектом собирания доказательств.
Однако законом на полицию прямо не возложено обеспечение участия адвоката на стороне задержанного лица (ч. 1 ст. 12 Закона о полиции), а её сотрудники, во исполнение требований ч. 3 ст. 14 Закона о полиции, обязаны лишь «разъяснить задержанному его право на юридическую помощь», но формально не обязаны обеспечить данное право.
По смыслу положений статей 2, 17 (ч. 1, 2), 18 Конституции РФ, не обеспеченное государством право, по сути, не является таковым в виду невозможности или затруднительности его практической реализации.
То есть задержанный, исходя из логического толкования ч. 3 и 5 ст. 14 Закона о полиции, гипотетически может обратиться к адвокату, но сложившаяся практика применения указанных норм не предполагает выполнение сотрудниками полиции конкретных действий по обеспечению условий для фактического осуществления функции защиты задержанного, что стало возможным из-за отсутствия в Законе о полиции императивных положений об обязательном участии защитника в каждом случае задержания.
Низкая практическая эффективность положений ч. 5 ст. 14 Закона о полиции о «праве задержанного воспользоваться услугами адвоката» усугубляется тем, что задержанный имеет право только на один телефонный разговор и только в целях уведомления близких лиц о своём задержании и месте нахождения, а не для приглашения адвоката (ч. 7 ст. 14 Закона о полиции).
Более того, лицам, находящимся в розыске и задержанным в порядке, установленном положениями статьи 14 Закона о полиции, право на телефонный разговор не предоставляется, и уведомление об их задержании не осуществляется (п. 4 ч. 2 и ч. 11 ст. 14 Закон о полиции).
Получается, что в отсутствие «возможности свободного передвижения и общения с неограниченным кругом лиц» [8] задержанный сотрудниками полиции человек не имеет реального доступа (либо этот доступ не является беспрепятственным) к юридической помощи адвоката.
На основании проведённого исследования предлагается два варианта решения обозначенной проблемы:
– внести в Закон о полиции императивные нормы об обязательном участии адвоката в регулируемых данным законом случаях, предполагающих потенциальную возможность ограничения права человека на свободу и личную неприкосновенность, в том числе в форме задержания;
– либо исключить из Закона о полиции положения, допускающие возможность задержания лица, не подозреваемого и не обвиняемого в совершении преступления или административного правонарушения.
Таким образом, презумпция невиновности в контексте адвокатского расследования представляется в трёх аспектах:
-
1) во внепроцессуальных отношениях она не освобождает адвоката от обязанности собирать доказательства невиновности доверителя, действуя как «элемент правореализационной практики» [1, с. 12, 13];
-
2) в производстве по делу об административном правонарушении и уголовному делу она «формально освобождает адвоката от названной обязанности, действуя как процессуальный принцип (элемент правоприменительной практики), но не исключает его право доказывать невиновность в пользу доверителя» [3, с. 119];
-
3) отсутствие у адвоката процессуальной обязанности доказывать невиновность подзащитного преодолевается объективной необходимостью её доказывания, порождающей профессиональную обязанность адвоката активно защищать доверителя всеми законными средствами, в том числе путём собирания и представления доказательств [3, с. 119].
Список литературы Презумпция невиновности как критерий определения механизмов и пределов адвокатского расследования в условиях применения
- Абдрашитов В.М. Теоретические основы презумпции невиновности: автореф. дис.. д-ра юрид. наук. Казань, 2017. С. 10-12.
- Дрягин М.А. Презумпция невиновности в российском уголовном судопроизводстве: дис.. канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. С. 179.
- Киселёв П.П. Адвокатское расследование: монография. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 101.
- Постановление Европейского Суда по правам человека от 24 сентября 2009 года (жалоба № 7025/04) по делу "Пищальников против Российской Федерации (Pishchalnikov v. Russia)" (п. 66) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2010. № 1.
- Постановление Европейского Суда по правам человека от 6 июня 2017 года (жалоба № 38958/07) по делу "Пичугин против Российской Федерации (Pichugin v. Russia)" (п. 32) // Российская хроника Европейского Суда. 2017. № 3 (43).
- Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П "По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова".
- Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2016 года № 25-П "По делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е.С. Сизикова" (п. 4, абз. 2) // Вестник Конституционного Суда РФ. 2017. № 1.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2009 года № 9-П "По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 КоАП РФ, пункта 1 статьи 1070 и абзаца 3 статьи 1100 Гражданского кодекса РФ и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова" (п. 3, абз. 5) // Российская газета. 2009. № 4945 (121).