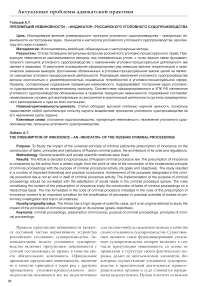Презумпция невиновности - "индикатор" российского уголовного судопроизводства
Автор: Гольцов Андрей Тамазович
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 4 (41), 2019 года.
Бесплатный доступ
Цель: Исследование влияния универсального принципа уголовного судопроизводства - презумпции невиновности на построение задач, принципов и институтов российского уголовного судопроизводства, архитектуру его норм и правил. Методология: Использовались всеобщие, общенаучные и частнонаучные методы. Результаты: Статья посвящена актуальным вопросам российского уголовно-процессуального права. Презумпция невиновности рассматривается автором под определенным углом: с точки зрения связи фундаментального принципа уголовного судопроизводства с назначением уголовно-процессуальной деятельности (ее целями и задачами). В результате исследования сформулирован ряд имеющих важное теоретическое и практическое значение выводов. Достижение обозначенных в уголовно-процессуальном законе целей не является самоцелью уголовно-процессуальной деятельности. Реализация назначения уголовного судопроизводства должна соотноситься с удовлетворенностью социальных потребностей в уголовно-процессуальной сфере...
Уголовное судопроизводство, презумпция невиновности, назначение уголовного судопроизводства, принципы уголовного судопроизводства
Короткий адрес: https://sciup.org/140244649
IDR: 140244649
Текст научной статьи Презумпция невиновности - "индикатор" российского уголовного судопроизводства
Правила презумпции невиновности являются составной частью нормативного устройства российского уголовного судопроизводства. Законодательная модель уголовного судопроизводства включает презумпцию невиновности с суммой составляющих ее правил в качестве своего обязательного компонента. Официальное признание презумпции невиновности, введение ее в качестве принципа в один ряд с другими принципами уголовно-процессуального законодательства оказывается все же недостаточным для сколько-нибудь надежного вывода о качестве самого уголовного судопроизводства. Существенным является такое функционирование уголовного судопроизводства, которое включает в том числе презумпцию невиновности со всеми ее правилами в структуру своего фактического порядка, делает ее неотъемлемым элементом, без которого осуществление уголовного судопроизводства в практической деятельности правоохранительных органов и суда становится юридически недопустимым. Нужно отметить то важное обстоятельство, что презумпция невиновности не содержит в своих правилах требований институционального характера. Другими словами, в презумпции невиновности ничего не говорится о том, в какой процедуре должен разворачиваться уголовный процесс, каковы правила той процедуры, в которой должно осуществляться доказывание и судебное разбирательство.
Если опустить юридическую значимость презумпции невиновности (как фундаментального правового принципа, в котором аккумулирована гамма уголовно-процессуальных гарантий), можно обратить внимание на то, что в правилах презумпции невиновности предпринята попытка «ввести» уголовно-процессуальную деятельность в «рациональную» форму – в частности, через формализацию правового положения обвиняемого (подозреваемого) в качестве невиновного (своего рода «исходный пункт» в деятельности органов обвинения и суда), распределение бремени доказывания и опровержения доводов стороны защиты, закрепление правила об истолковании в пользу обвиняемого (подозреваемого) неустранимых (и неустраненных) сомнений в его виновности.
Уголовное судопроизводство можно представить как вид деятельности, общий для организационно и функционально обособленных субъектов – выражаясь языком социологических теорий, «агентов» социальной системы (в первую очередь, органов уголовного преследования и суда, а также адвокатуры). Возникающий в процессе их взаимодействия организационный порядок характеризуется прежде всего рациональным содержанием своих правил, что предполагает их де-субъективизацию – абстрагирование от индивидуальных особенностей участников уголовно-процессуальных отношений. Первостепенное значение в организационном порядке приобретает качество его целесообразности, под которым понимается степень соответствия организационных отношений целям уголовного судопроизводства. Организационный порядок, частью которого являются правила презумпции невиновности, интенционально направлен на преобразование уголовного судопроизводства в рациональную конструкцию, в которой до известного предела редуцируются персонализированные отношения.
К примеру, в презумпции невиновности эксплицитно не выражен тот «субъект», который «считает обвиняемого невиновным».
По мнению М.С. Строговича, «презумпция невиновности вовсе не является выражением субъективного мнения того или другого субъекта уголовно-процессуальной деятельности, она яв- ляется выраженным в законе объективным правовым положением» [3, c. 66–67].
Термин «невиновный» в контексте презумпции приобретает значение самостоятельного уголовно-процессуального статуса. Обвиняемый (подозреваемый) считается невиновным (наделяется статусом невиновного) автоматически, без специального вынесенного постановления, в силу самого факта уголовного преследования, направленного на проверку его причастности. Презумпция невиновности не запрещает вести против обвиняемого (подозреваемого) изобличительную деятельность, предъявлять обвинения, применять до суда меры уголовно-процессуального принуждения. Иначе говоря, органы уголовного преследования не лишаются правовой возможности «считать» обвиняемого (подозреваемого) причастным к инкриминируемому ему преступлению, в противном случае предъявление обвинения, возбуждение уголовного дела в отношении конкретного подозреваемого, вручение ему уведомления о подозрении не имело бы разумного основания.
Следует сказать, что в юридической литературе положения, составляющие содержание правил презумпции невиновности, в своей полноте и всесторонности в достаточной мере проанатоми-рованы. В настоящей статье нет необходимости рассматривать все возможные импликации данного принципа. Наиболее интересными и реже всего встречающимися в научно-практической литературе являются попытки охарактеризовать презумпцию невиновности в определенном отношении – в аспекте ее связи с назначением уголовного судопроизводства. Формализация уголовно-процессуальной деятельности, подчинение ее организационного порядка общим задачам уголовного судопроизводства придает обозначенному в работе вопросу чрезвычайно актуальное значение.
Презумпцию невиновности нельзя отнести к «нейтральным» для уголовного судопроизводства принципам. Содержание составляющих ее правил ангажирует выбор законодателем той или иной модели уголовного судопроизводства. Реализация презумпции невиновности в практике органов уголовного преследования и суда подразумевает такое построение задач уголовного судопроизводства, при котором их осуществление должно выполняться по определенному иерархическому принципу.
Несмотря на то, что стоящие перед уголовным судопроизводством задачи носят в своей сущности полярный характер (защита пострадавших от преступлений и защита обвиняемых от незакон-
Таблица 1
|
НЕВИНОВНЫЕ (по смыслу ст. 14 УПК РФ) |
|||
|
виновность не доказана |
невиновность доказана |
||
|
преступление в действительности совершили |
преступления в действительности не совершали |
преступления в действительности не совершали |
преступление в действительности совершили |
ного и необоснованного привлечения к уголовной ответственности), в УПК РФ «назначение» уголовного судопроизводства сформулировано безотносительно к вопросу об их первостепенной значимости, а в ч. 2 ст. 6 УПК РФ вообще декларируется их юридическая паритетность. Необходимость структурирования задач уголовного судопроизводства и определения их относительной значимости в уголовно-процессуальной деятельности органов обвинения и суда продиктована как раз этим противоположным характером интересов. Критерием при определении иерархии задач должна выступать не законодательная формулировка «назначения» уголовного судопроизводства, а ценность самих объектов охраны, которые оказываются в орбите уголовно-процессуальной деятельности.
Правила презумпции невиновности не подвержены конъюнктурным колебаниям, характерологически устойчивы, как бы ни менялся вектор уголовной или общесоциальной политики. Это дает право с полным основанием поставить вопрос об адекватности целей уголовного судопроизводства обозначенному в правилах презумпции невиновности содержанию.
М.С. Строгович справедливо подчеркивал, что «принципы уголовного процесса не следует представлять как какие-то отвлеченные, априорные положения, из которых путем логической дедукции можно вывести все процессуальные формы и институты» [2, с. 72]. Принципы не являются, таким образом, неким «строительным материалом», «кирпичиками», из которых возводится здание институтов уголовного судопроизводства.
Презумпция невиновности «не участвует» в построении институтов уголовного судопроизводства, его задач. Для уголовного судопроизводства принцип презумпции невиновности не носит онтологического или естественнонаучного характера. Инкорпорирование презумпции невиновности в отечественную систему уголовного судопроизводства обусловлено сменой его мировоззренческой парадигмы. Презумпция невиновности носит автономный от назначения уголовного судопроизводства в его нормативно-определенном выражении характер. С этого ракурса презумпция невиновности может рассматриваться, с одной стороны, как своего рода «индикатор» избранной законодателем «интона- ции» (репрессивной или охранительной), а с другой – служить целям критического осмысления задач уголовного судопроизводства, его принципов и институтов.
Подразумеваемый термином «невиновность» смысл схематично можно проиллюстрировать следующим образом (табл. 1).
В таблице 1 наглядно продемонстрировано, что презумпция невиновности не гарантирует достоверности вывода о действительной виновности или невиновности обвиняемого (подозреваемого). В каждой из «подгрупп» те, кто преступление мог совершить в действительности, но по каким-то причинам их виновность была не доказана либо была доказана их невиновность. С точки зрения презумпции невиновности, доказанная невиновность означает, что виновность доказана не была.
В чем причина такого положения дел, почему формула презумпции невиновности не создает стопроцентных гарантий, не дает надежного вывода о действительной виновности или невиновности? Ответ на поверхности: презумпция связывает решение вопроса о виновности не с самим фактом совершения преступления, а с тем, доказано ли, что преступление совершено обвиняемым (подозреваемым). В решении вопроса о виновности определяющую роль в виде некоего «промежуточного слоя» между фактом совершения преступления и признанием обвиняемого виновным играют доказательства.
Ход рассуждения по презумпции невиновности имеет форму логического условно-категорического силлогизма:
-
(1) Если «А» есть «B», то «С» есть «D»
-
(2) «A» есть «B»
-
(3) «C» есть «D»
где первое положение выполняет роль большей посылки, второе – меньшей, а третье является выводом, заключением из обеих посылок.
-
(1) Пока виновность («А») не доказана в предусмотренном законом порядке и не установлена вступившим в законную силу приговором суда («B»), обвиняемый («С») считается невиновным («D»)
-
(2) Виновность («A») не доказана в предусмотренном законом порядке и не установлена вступившим в законную силу приговором суда («B»)
-
(3) Обвиняемый («C») считается невиновным («D»)
Из приведенных схем видно основное по формуле презумпции невиновности правило: «недоказанная виновность равнозначна доказанной невиновности». В п. 20 ст. 5 УПК РФ схожая формулировка касается понятия непричастности – неустановленной причастности либо установленной непричастности лица к совершению преступления.
«Вывод» о том, что «обвиняемый невиновен», является в конструкции силлогизма следствием из положения о том, что «виновность не доказана», которое выступает здесь основанием. Условно-категорический силлогизм имеет свои правила вывода, относящиеся отдельно к «основанию» силлогизма и отдельно к «следствию».
-
А. Правила, относящиеся к «основанию» (Если «A» есть «B»):
-
1. «Истинность» основания означает «истинность» следствия («виновность не доказана» – «обвиняемый считается невиновным», хотя в действительности мог преступление совершить (Sic!));
-
2. «Ложность» основания не означает «ложности» следствия, оно может быть «истинным» («виновность доказана» – из этого нельзя категорично утверждать еще, что обвиняемый виновен в инкриминируемом ему преступлении (Sic!), он может быть в действительности невиновным).
-
В. Правила, относящиеся к «следствию» («C» есть «D»):
-
1. «Ложность» следствия означает «ложность» основания (обвиняемый совершил инкриминируемое ему преступление – виновность может быть доказана, может быть доказана его невиновность (Sic!));
-
2. «Истинность» следствия не означает «истинности» основания, оно может быть «ложным» («обвиняемый по-прежнему невиновен» – возможны варианты: может быть положительно доказана его невиновность, или виновность так и не будет доказана, или может быть доказана его виновность (Sic!)).
Роль, которую доказательства должны выполнять для «срабатывания» каузальной связи между основанием и следствием в формуле презумпции невиновности, не наделяет сам вывод о виновности (как, впрочем, и, наоборот, о невиновности) характером аподиктической («научно необходи- мой») или ассерторической («эмпирически установленной») достоверности. Как отсутствие доказательств не означает, что преступления не было или оно не было совершено подозреваемым (обвиняемым), так и наличие доказательств (что гораздо острее для понимания вопроса) не является абсолютной гарантией того, что преступление имело место в действительности или совершено конкретным подозреваемым (обвиняемым).
Приведенные схемы силлогизма и правила получения вывода из него раскрывают с логической стороны содержание таблицы 1: речь идет о том, что презумпция невиновности не может служить абсолютным препятствием для того, чтобы обвиняемый, в действительности совершивший преступление, не мог избежать уголовной ответственности. В презумпции невиновности акцент сделан на защите невиновного – обвиняемого, который в действительности преступления мог и не совершать. По смыслу презумпции невиновности «лучше оправдать «виновного (в действительности совершившего преступление)», чем осудить хотя бы одного «невиновного» (в действительности не совершавшего преступление)».
Логическое содержание презумпции невиновности позволяет прийти к парадоксальным выводам: виновность в действительности невиновного может быть доказана, с другой стороны, может быть доказана невиновность в действительности виновного. Для презумпции невиновности доказанная виновность в действительности невиновного более принципиальная ошибка, означающая нарушение самого принципа. С чем может быть связана возможность такой ошибки? Очевидно, с тем обстоятельством, что доказательства в уголовном судопроизводстве являются своего рода артефактическим элементом уголовно-процессуальной деятельности. Их «появление» в уголовном деле обусловлено процессом доказывания – их собирания, проверки и оценки. Положения презумпции невиновности не охватывают собой правила доказывания, которые находятся как бы за рамками формулы презумпции невиновности.
То же самое можно сказать и об организации уголовного судопроизводства в целом и его стадий: «запас прочности» в презумпции невиновности должен обеспечиваться надлежащим соблюдением требования о том, чтобы виновность была доказана «в установленном законом порядке». Однако порядок уголовного судопроизводства, его досудебной части и стадий судебного производства (их абрис и конкретное выражение) не находятся в зависимом от презумпции невиновности положении.
Презумпция невиновности относится к разряду опровержимых юридических презумпций, не имеющих статистической природы. В презумпции невиновности никак не выражена какая-либо фактическая или статистическая «закономерность». В противном случае следовало бы говорить о действии презумпции виновности – исходя из наблюдений статистического ряда (абсолютно большом количестве обвинительных приговоров в эмпирическом выражении). Кстати говоря, это обстоятельство в качестве одного из возможных объяснений может служить причиной того, что фактически выполняемой в практическом отношении презумпцией является как раз не презумпция невиновности, а ее антипод. Не случайно в напутственном слове присяжным заседателям должна быть разъяснена сущность презумпции невиновности. Презумпция невиновности призвана противостоять тому предвзятому или предубежденному, как правило, общественно разделяемому мнению о виновности, которое каждый раз эпифеноменом сопровождает сам факт начала уголовного преследования. Начало уголовного преследования и продолжение его осуществления в отношении конкретного лица еще до того, как будут полно собраны и исследованы обвинительные доказательства, уже ставит под сомнение его невиновность. Длительные или неопределенные сроки производства по уголовному делу вступают в контрастирующее противоречие с содержанием презумпции невиновности, поскольку «держат» окончательное решение вопроса о виновности в подвешенном («промежуточном») состоянии. Статус «невиновного» подразумевает необходимость завершения производства по уголовному делу в отношении конкретного обвиняемого (подозреваемого) в «разумные» сроки. Иное по существу означало бы превращение уголовного преследования в форму известного инквизиционному уголовному процессу решения об «оставлении подсудимого в подозрении», что несовместимо с юридической определенностью статуса обвиняемого (подозреваемого). «Значение (решения об оставлении в подозрении – авт.) состояло в том, что, хотя подсудимый освобождался, но он не считался оправданным и против него во всякое время, при изменившихся обстоятельствах, могло быть вновь начато дело. Такой посредствующий неопределенный ответ (о недоказанности обвинения как основании для вынесения решения «об оставлении в подозрении» – авт.) был принят следственным порядком потому, что он стремился прежде всего к материальной истине, интересы которой ставились выше практических интересов, возникающих в уголовном деле» [4, с. 343]. «Оставление подсудимого в подозрении – выдумка канонистов, заимствованная Россиею из Германии, есть явный признак несостоятельности законной теории доказательств. Оставление в подозрении не лишает, правда, подсудимого ни жизни, ни свободы личной, ни имущества, но оно влечет за собою весьма чувствительные ограничения в правах гражданских, главное – пятнает его честь, подвергает его на всю будущность бремени тяжкого обвинения» [1, с. 50].
Презумпция невиновности «защищает» своим понятием широкий круг субъектов – как тех, кто непричастен к совершению преступления, так и тех, кто в действительности преступление мог совершить. Давняя полемика о назначении уголовного судопроизводства должна решаться одним единственно-возможным в такой ситуации способом – путем выбора в пользу тех ценностей, которые имеют наибольшее значение для данного общественно-политического строя.
Презумпции невиновности противостоит только один вид опровержимой юридической презумпции – презумпция виновности. Смена «матрицы» не изменит распределения действительно совершивших преступление и в действительности невиновных по группам, однако приведет к смещению акцента. Если в презумпции невиновности должна быть доказана виновность (обвиняемый считается невиновным), то в презумпции виновности доказыванию подлежит невиновность обвиняемого (подозреваемого), поскольку его виновность «предполагается».
Таблица 2
|
ВИНОВНЫЕ (по смыслу презумпции виновности) |
|||
|
виновность не доказана |
невиновность доказана |
||
|
преступление в действительности совершили |
преступления в действительности не совершали |
преступления в действительности не совершали |
преступление в действительности совершили |
Схематично содержание презумпции вино- Из таблицы 2 видно, что смена парадигмы не вности можно проиллюстрировать следующим исключает, уже наоборот (по сравнению с преобразом (табл. 2). зумпцией невиновности), возможности осужде-
ния тех, кто в действительности преступления не совершал, лишь бы только не был оправдан обвиняемый, в действительности преступление совершивший. К невиновным (в данном случае под ними будут подразумеваться те, чья невиновность доказана в установленном законом порядке) по-прежнему относятся обвиняемые (подозреваемые), преступления не совершавшие, а также обвиняемые (подозреваемые), которые могли участвовать в совершении преступления, но их невиновность была доказана. Отказ от презумпции невиновности не влечет за собою изменения в характере вывода – противоположная презумпция также не «гарантирует» достоверного решения вопроса о виновности или невиновности обвиняемого (подозреваемого).
Презумпция невиновности не имеет гносеологического характера: она наделяет статусом невиновного каждого, в отношении кого начато или продолжается уголовное преследование – независимо от того, могло ли преступление быть в действительности совершено или нет. «Познавательные функции» презумпции невиновности существенно ограничены «суммой» составляющих ее правил, квинтэссенцией которых является положение о том, что виновность должна быть доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Отсутствие доказательств виновности – достаточное, само по себе формальное, условие для невиновности обвиняемого (подозреваемого) в соответствии с правилами презумпции невиновности.
Презумпция невиновности призвана рационализировать форму субъективной уверенности лица, принимающего ключевые решения по уголовному делу (о привлечении в качестве обвиняемого, об утверждении обвинительного заключения, о вынесении приговора). В отличие от легальной (формальной) теории доказательств, при которой судья вынужден был выносить приговор вопреки внутреннему убеждению и фактическому положению дел, правила, составляющие содержание презумпции невиновности, выступают условиями свободной оценки доказательств по своему внутреннему убеждению – в том числе сформированному путем устранения в предусмотренном законом порядке сомнений в виновности обвиняемого.
Противоположный (в определенной степени – даже антагонистический) характер интересов полярных участников уголовного судопроизводства – потерпевших и обвиняемых (подозреваемых) – обусловливает необходимость построения иерархии охватываемых понятием назначения уголовного судопроизводства задач. Достоверное установление виновности выступает гарантией того, что в действительности невиновный (не причастный к совершению преступления) не будет привлечен к уголовной ответственности. «Запас прочности» в защите интересов обвиняемых (подозреваемых) обеспечивается требованиями о соблюдении процессуальной формы при осуществлении доказывания и ведении уголовного преследования и суда. Защита пострадавших (потерпевших) для уголовного судопроизводства имеет производный от основных задач характер.
ЗАЩИТА В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕ СОВЕРШАВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОТ ОСУЖДЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

ЗАЩИТА ЛЮБОГО, ОБВИНЯЕМОГО (ПОДОЗРЕВАЕМОГО) В ПРЕСТУПЛЕНИИ, ОТ НЕЗАКОННОГО ОСУЖДЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ
На схеме изображена «лестница» задач. По презумпции невиновности первое место в иерархии отводится недопустимости осуждения и наказания тех, кто в действительности преступления не совершал.
Доказанность виновности обвиняемого и признание его виновным «связаны» в презумпции как основание и следствие – следствием того, что виновность обвиняемого доказана, является признание его виновным в инкриминируемом преступлении. Между тем выше было показано, что их «истинность» и «ложность» в структуре суждения между собой не так однозначно связаны: «истинность» следствия не означает «истинности» основания, а «истинность» основания еще не означает, что обвиняемый в действительности не причастен к совершению преступления. В формуле презумпции невиновности причинно-следственное объяснение между фактом совершения преступления и виновностью обвиняемого может только гипотетически подразумеваться, вот почему не доказанная по презумпции вино- вность в этом «мысленном уравнении» считается тождественной доказанной невиновности обвиняемого. «Увидеть» действительную виновность или невиновность обвиняемого как некое «очевидно-истинное положение дел» в уголовном судопроизводстве не представляется возможным. Необходимость, с одной стороны, доказать виновность обвиняемого, а с другой – доказать ее в предусмотренном законом порядке, защищая в виде следующего уровня задач от незаконного или необоснованного привлечения к уголовной ответственности любого, против кого осуществляется уголовное преследование, безотносительно к тому, совершено им фактически преступление или нет, – выступает условием обеспечения задач более высокого, первого, уровня.
В презумпции невиновности в концентрированном виде находит выражение общественнополитический манифест. Сам принцип давно стал знаком социальных значений, который символизирует собой радикальный переход типа уголовного процесса – от розыскного (инквизиционного) к состязательному.
Интегративным компонентом уголовного судопроизводства как разновидности социальной системы является его цель – назначение. Описание задач назначения в «логике» выявленных, ис- ходя из презумпции невиновности, задач – значительный шаг в процессе социализации цели уголовного судопроизводства, сближения ожидаемых от него результатов с общественными потребностями в сфере уголовно-процессуальной деятельности, конгруэнтности составляющих его элементов.
Список литературы Презумпция невиновности - "индикатор" российского уголовного судопроизводства
- Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. М.: ЛексЭст, 2001.
- Строгович М.С. Уголовный процесс. М., 1946.
- Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. М.: Наука, 1984.
- Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб.: Альфа, 1996. Т. II.