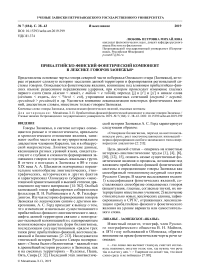Прибалтийско-финский фонетический компонент в лексике говоров Заонежья
Автор: Михайлова Любовь Петровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 7 (184), 2019 года.
Бесплатный доступ
Представлены основные черты говора северной части побережья Онежского озера (Заонежья), которые отражают сложную историю заселения данной территории и формирования региональной системы говоров. Описываются фонетические явления, возникшие под влиянием прибалтийско-финских языков: рецессивное передвижение ударения, при котором происходит изменение гласных первого слога (типа ляжит верста; гресливый > ресливый) и др. Уделяется внимание лексикализации некоторых фонетических явлений, диалектным словам, известным только говорам Заонежья.
Говоры заонежья, лексикализация фонетических явлений, языковые контакты
Короткий адрес: https://sciup.org/147226516
IDR: 147226516 | УДК: 81.374 | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.399
Текст научной статьи Прибалтийско-финский фонетический компонент в лексике говоров Заонежья
Говоры Заонежья, в системе которых совмещаются разные в этимологическом, ареальном и хронологическом отношении явления, занимают особое место как во внутрирегиональном диалектном членении Карелии, так и в общерусской макросистеме. Лингвистические данные, касающиеся разных уровней языка, свидетельствуют о глубине и сложности формирования за-онежских говоров и отдельных локальных групп. В отчете о поездках в Заонежье в 80-е годы XIX века А. А. Шахматов подчеркивал поразительное многообразие лингвистических, этнографических, исторических и других фактов и характеризовал Олонецкую губернию «неистощимой хранительницей в высшей степени драгоценного научного материала» [14: 762]. Особый заонежский говор зафиксирован собирателями фольклора П. Н. Рыбниковым и А. Ф. Гильфер-дингом. Изучая историю формирования говоров Заонежья по лексическим связям с другими микрозонами, А. С. Герд приходит к выводу о том, что изменение изначально существовавшего прибалтийско-финского лингвистического ландшафта данной территории связано с новгородско-псковской колонизацией и с одновременным возникновением развитых форм билингвизма, последующим сосуществованием «рядом трех типов речи: прибалтийско-финской, восточнославянской и билингвизма» [2: 213]. Исследователи этнической истории Русского Севера подчеркивают: «Эпоха былого билингвизма – важный этап в древнейшей истории русских» в Заонежье, как и на смежных территориях – Пудожье, Паша, Оять, Свирь [3: 32]. Последний этап лингвистиче-
ской истории Заонежья А. С. Герд характеризует следующим образом:
«Отмирание билингвизма, переход на восточнославянскую речь; рост восточнославянских инноваций – период формирования особого заонежского типа севернорусских диалектов» [2: 213].
Цель данной статьи ‒ опираясь на известные историко-лингвистические труды [1], [4], [6], [10], [12], 15], описать самые существенные фонетические явления и процессы, возникшие под влиянием прибалтийско-финской фонетической системы и определяющие говоры Заонежья как своеобразный этнолингвокультурный «остров» Русского Севера. В задачи исследования входит: 1) классификация фонетических явлений, составляющих своеобразие описываемых говоров (акцентуация, гласные, согласные звуки), их интерпретация известными учеными; 2) включение относительно новых лексических единиц, зафиксированных в СРГК1, отражающих лексикали-зацию прибалтийско-финского фонетического явления на уровне варианта или самостоятельного слова.
ЛЯПАНЬЕ – ЗАОНЕЖСКОЕ «ЯКАНЬЕ»
Известный педагог, этнограф, член Русского географического общества В. Н. Майнов, в 1874 году побывавший в Обонежье, обратил внимание на яркие фонетические черты речи за-онежан:
«…так ловко она вытянет гласную, смягчит согласную, поднимет, опустит голос там, где нужно, что речь так и льется у нея. < > Ударение он делает так, что иное слово сразу и не поймешь» [7: 89].
Своеобразной лингвистической карточкой За-онежья можно считать шутливую фразу « Пя́шком с мя́ шком до Медвя́ жки » (пословный перевод – « Пешком с мешком до Медвежки , то есть до Медвежьегорска)», отражающую одну из ярких особенностей говора северной части побережья Онежского озера, которую В. В. Колесов назовет заонежским «яканьем», объясняя перенос ударения на первый слог с одновременным преобразованием гласного (что в написании представлено буквами е и я ) внутренними процессами развития фонетической системы говора [6].
А. А. Шахматов выделяет два различающихся говора на территории Заонежья – Кижешуньг-ский, или ляпающий, и Толвуйский [13]. По утверждению ученого, «одну звуковую черту, выделяющую это наречие, местные жители называют ляпаньем» [13: 758], под которым имеется в виду перенос ударения на первый слог (реже – в середине слова – на предшествующий) и сопровождающий его переход гласных [о] и [е] соответственно в [а] и [я] . Б. П. Ардентов видит неоднородный характер говоров Заонежья в наличии екающего и якающего говоров, граница между ними идет с востока на северо-запад по пунктам Типиницы – Холмы – Поля – Пургино (это якающие деревни), далее на южный край губы Святухи: на восточном берегу губы – екают, на западном – якают [1: 74].
Н. П. Гринкова, описывая особенности олонецких говоров, отметила зафиксированные А. А. Шахматовым словоформы, в которых отражается данное явление [4: 369‒374]. Перенос ударения на первый слог и одновременный переход [е] в [я] в данном слоге в позиции после мягкого согласного представлены в текстах А. А. Шахматова большим количеством примеров, среди которых выделяются слова и формы с изменениями
-
(1) в корне полнознаменательного слова:
бля́ снет – блеснё́ т, бя́ гом – бего́ м, бя́да – беда́ , бя́ жать – бежа́ ть, бя́руть – беру́ т, вя́ зди – везде́ , вязуть - везут, плясти - плести!, стягать - стегать, тя́рпеть – терпе́ ть, чя́ ловек – челове́ к, ля́ жит – лежи́ т, дя́ретесь – дерё́ тесь и др.,
-
(2) в местоимениях:
к ся́ би – к себе́ , мя́ ни – мени́ (мне), тя́ бе – тебе́ , вся́γо – всего́ , ниця́γо – ничего́ , чя́γо – чего́ , я́го – его́ , я́му – ему́ ,
-
(3) в предлоге без :
бя́з очков – без очко́ в,
-
(4) в частице не :
ня́ бить – не би́ ть, ня́ боюсь – не бою́ сь, ня́ бронись – не бранись, ня бросай - не бросай, ня возьмешь - не возьмё́ шь, ня́ возьму – не возьму́ , ня́ вопи – не вопи́ , ня могу – не мог у́ , ня́ отнимай – не отнима́ й, ня́ потерять – не потеря́ ть, ня́ пущу – не пущу́, ня́ ушли – не ушли!, ня хочу - не хочу.
Переход [о] в [а] в позиции после твердого согласного в первом слоге или в анлауте неприкрытого первого слога, при переносе на него ударения также отмечен в значительном количестве слов и форм:
-
(1) в корнях полнознаменательных слов:
а́ вин – ови́ н, да́ ить – дои́ ть, да́ мой – домо́ й, жа́ ниха – жениха́ , да́ ци – дочи́ (дочь), жа́ ньцов – женцо́ в (жнецов), за́ вем – зове́ м (зовём), на́ цевать – ночева́ ть, па́ слы – послы́ , сха́ ди – сход и́ , сга́ ворись – сговори́ сь и др.,
-
(2) в приставках и предлогах:
а́ тдохни – отдохни́ , да́ ждя – дожида́ ет, па́ кажись – покажи́ сь, па́ неси – понеси́ , са́ брались – собра́лись, са́ греть – согре́ ть, са́ шли – сошли́ , ва́ весь рос – во весь рост, са́ христом – со христо́ м,
-
(3) в местоимениях:
а́ ны – оны́ (они), ма́я – моя́ , тва́ я – твоя́ , с та́ бой – с тобой, с сабой - с собой.
Приведенные примеры демонстрируют яркую фонетическую особенность заонежских говоров, лексикализация которой проявляется исключительно редко. При возникновении новой лексической единицы требуется не только ее географическая ограниченность, но и разрыв системных связей хотя бы на одном уровне. В настоящее время отмеченную особенность заонежского говора можно отнести к редким, сохраняющимся в речи единичных носителей архаического слоя диалекта. Однако зафиксирована лексикализация указанных явлений в словаре, СРГК приводит следующие слова, отражающие переход [е] > [’а]:
ля́ нник ‘поле для льна’, ля́ шать ‘вспахивать полосу земли’, мя́ довик ‘гнездо диких пчел с сотами’, мя́ здра ‘нижняя губчатая или пластинчатая часть шляпки гриба’, ня́ коть ‘коготь’, окля́ ять ‘прийти в хорошее состояние (о цветах, растениях)’, поля́ мешать ‘испугаться’ [текст « Увидела я медведя, полямешала, побежала ме-тью » иллюстрирует более точное толкование – ‘побежать’, ср. лемешйть ‘идти частыми мелкими шажками, семенить’ Петрозав. Олон., пя́ кло ‘лопата, которой сажают пироги в печь’, пя́ тун ‘петух’, пя́ тушок ‘иван-чай’, стя́рнуть ‘постирать’, ря́ вить ‘громко кричать, плакать’, мя́ тла ‘трава’ – с пометой Медв., дя́ нник ‘загон для скота в поле или в лесу’ (в статье «Де́ нник») Кондоп., ‘мелкий кустарник’ Медв., ря́ шить ‘сломать, поломать, исковеркать, привести в негодность’ Кондоп.
Не случайно более широко известно название тястенники ‘регионально-групповое прозвище жителей Заонежья’ Медв., Прион., наряду с те́ стенники Медв. Каждый из приведенных вариантов имеет исходное слово ( ленни́ к , леши́ ть и т. д.) той же или близкой семантики, бытующее на более широкой территории.
Единиц, отражающих лексикализацию перехода [о] > [а́ ], в СРГК отмечено значительно меньше:
бра́ дница ‘та, которая ходит пешком’, ва́ ложный ‘приготовленный на масле, жирный’, бора́ ница ‘борона’ – Медв., ср. броди́ ть, воло́ жный, боронни́ ца; сюда примыкает бра́ зды ‘часть упряжи, удила’ – Кондоп., ср. бро́ зди.
В «Отчете о поездке в Олонецкую губернию летом 1886 года» А. А. Шахматов касается причин переноса ударения на первый слог:
«Хотя влияние городских диалектов оказалось незначительным, но зато здесь пришлось встретиться со значительным влиянием на русские говоры соседних финских наречий, сказавшимся не только в заимствованных словах, но главным образом в передвижении ударения на финский лад. На всем западном берегу Онежского озера сказывается сильное влияние финнов» [14: 760].
В курсе лекций по диалектологии в 1919 году при рассмотрении темы «Смешение и скрещение языков» А. А. Шахматов среди прочих приводит пример влияния карельского языка, имеющего в своей системе гласных дифтонги, на русский, обусловленного переносом ударения с конечного на начальный слог и изменением гласных [е] и [о]: не́ су > не́ асу > ня́ су ; то́ пор > то́ апор > та́ пор [15: 35]. Исследователь отмечал сильное, даже разрушительное действие на звуки и формы языка, какое оказывает «влияние соседних языков через посредство возникающей в результате тесного с ними общения двуязычности» [15: 34]. При четкой аргументированности и обоснованности положений, выдвинутых А. А. Шахматовым, отметим, что при анализе акцентуации частной диалектной системы говоров Заонежья, проведенном А. В. Тер-Аванесовой в 80-е годы XX века, обнаружены признаки весьма архаичного ударения «кривичского типа»2, что говорит не столько о неизменном интересе к говорам За-онежья с их сложной историей, сколько о необходимости их дальнейшего изучения.
ЗАМЕНА СРЕДНЕЯЗЫЧНОГО СОГЛАСНОГО В АНЛАУТЕ
В 60-е годы XX века Т. Г. Доля, изучавшая говоры Заонежья, записала произносительные варианты известных слов и форм:
гесть ‘есть, имеется’: До́ хтур го́ варит, бале́ сь грудная гесь . Типиницы; ги́ здить ‘ездить’: Ниве́ ста ги́ здит по гастям, па паро́ды. Жених тожа ги́ здиў в гости. За нивестай ги́ здили по́ ездом. Ги́ здя с пи́ снямы . Великая Нива; Го́ варит, заги́дям здись в диревню. Волкостров3.
Здесь отражена яркая диалектная особенность – переход [j] в [г’] в начале слова, который обычно считают следствием взаимодействия русских с прибалтийско-финским населением, предположительно с вепсами [12: 43]. В живой речи русскоговорящих вепсов употребительны слова гесли, гящик, гюбка, Гюрьев день (ср.: если, ящик, юбка, Юрьев день), и, как подчеркивают исследователи, «это правило распространяется и на те диалекты и говоры, которые на вепсской почве характеризуются протезой d’» [12: 43]. Звук [j] в начале слова – «один из наиболее ярких диалектных маркеров на уровне фонетики вепсского языка» [5: 72]. Его рефлексы четко очерчивают ареалы вепсских говоров: на юго-западе сохраняется исконный [j-] – järv, на севере на его месте возникает палатализованный [d’-] ‒ d́ärv, на востоке палатализованный [g’-] ‒ ǵärv [5: 72].
Влияние вепсского языка обнаруживается в наличии [д’] и [г’] на месте [j] в русской диалектной лексике, в частности в лексемах дес и зги́ здо / сги́ здо , имеющих единый исконный корень - езд -. Ср. лексикографические данные: езд ‘наклонный настил из бревен, ведущий на второй этаж хозяйственной части дома’ Кондоп., Медв., Пуд., Выт., вариант ездό Пуд.; дес ‘бревенчатый настил для въезда на сарай’ Медв.; згйздо ‘то же’ Пуд.; сгйздо ‘пологий настил, помост, по которому завозили сено в сарай’ Карг. Последние две лексические единицы представляют собой варианты исходного слова съездό Лод., Подп., Тихв., Выт., Плес., в которых в начале корня после приставки используется [г’] вместо [j], что говорит о распространении данного явления на Юго-Восточное Обонежье, включая Лачскую группу говоров. Ср. сведения карты 71 «j / g’ / d’ в начале слова», указывающей на ограниченность данного явления районом южнее Онежского озера [5: 202‒204]. В слове дес , помимо оглушения и сокращения конечного сочетания - зд > - ст > - с , отражена незакономерная мена [j - ] ~ [д’-]. Надо полагать, что данный процесс произошел параллельно с меной [j-] ~ [г’-] и независимо от нее.
ИЗМЕНЕНИЕ ОДИНОЧНЫХ СОГЛАСНЫХ
Из других явлений незакономерного характера, возникших, возможно, не без влияния иноструктурного языкового окружения, отметим следующие: отпадение начального согласного в- : араника ‘название ягоды и растения’ Медв., ср. воронúка, веронúка ‘ягода семейства ворониковых’ Кем.; мена глухих и звонких звуков [б] и [п]: белькуша ‘керосиновая лампа без стекла’ Медв., ср. пилькýша ‘самодельный светильник’ Оят. Ленингр., Новг.; наличие мягкого согласного на месте твердого: бя́ла и бáло ‘приспособление для изготовления полозьев’ Медв.; твердого на месте мягкого: задла́ ться ‘затянуться во времени’ Кондоп., ср. задля́ ться в близких значениях Медв., Пуд., лагови́ на и ля́ говина ‘топкое болото’ Медв., ср. ляговина Люб. Новг., Онеж. Арх., ма-котя ‘несообразительный, неловкий человек’ и мяко́ тя ‘о пьяном’ Медв.; бру́дга ‘подружка невесты’ Медв.. ср. брю́ дга ‘в свадебном обряде родственница со стороны жениха’ Кондоп., Медв., закото́ мки ‘о парочках влюбленных’, ср. закотё́ мки ‘темный, укромный уголок’ Медв. и др.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КОНСОНАНТНЫХ СОЧЕТАНИЙ В АНЛАУТЕ
Влияние неродственного иноязычного окружения в области фонетики обнаруживается в лек-сикализации некоторых явлений, обусловленной особенностями финно-угорской системы. Например, отмечается упрощение консонантного сочетания в начале слова до одного звука:
верибой ‘растение зверобой’ Кондоп., ср. зверобой ; лыскаться ‘медленно двигаться, плыть’ Медв., ср. блыскаться ‘бродить, слоняться без дела, шляться, бродяжничать’ Прейл. Латв. ССР; лочкать 1. ‘наносить удары, побои; бить, избивать’ Медв., Прион., ср. клочкать ‘ударять, бить’ Медв.; рутйть ‘ронять, неожиданно выпускать из рук’ Медв., ср. крутить (в руках); рячкнуть ‘хрустнуть, хрупнуть (о кости)’ Медв., Пуд., ср. хрячкнуть ‘издать звук, щелкнуть, хрустнуть’ Медв.; ля усилит. част. 'служит для выражения удивления, восторга, сообщая эмоциональную окраску высказыванию; ведь’ Медв., ср. гля междом. 'возглас при неожиданном узнавании’ Пск. Пск., гляй междом. 'приглашение посмотреть, обратить внимание на что-н.; гляди, посмотри.’ Кем., гляй - ка 'то же’ Медв.; ряскнуть ‘загреметь, грохнуть, ударить (о громе)’ Медв., Кондоп., ср. хрястнуть ‘ударить с силой’ Выт. Волог.; ряжа ‘длинная палка с привязанным на конце камнем, служащая грузом для рыболовной сети’ Медв., Кондоп., ср. гряжать , ср. гряжать ‘погружаться во что-н. топкое, вязкое; вязнуть’ Медв.; рогать ‘задевать, обижать, оскорблять, беспричинно кого-н.’ Кондоп., ср. трогать разг. ‘беспокоить, задевать, обижать’.
Приведенные данные, за исключением первого примера, демонстрируют преобразование сочетаний согласных, заканчивающихся плавным звуком, что указывает на действие закона восходящей звучности, который действовал в русском языке до падения редуцированных гласных.
гверст- и грест-
В группе родственных лексических единиц, в которую входит как основное слово гверста, произошло неодинаковое преобразование консонантного сочетания в начале слова: 1. Про -исходит упрощение сочетания за счет исчезновения первого звука, гв - > в- : верста ‘мелкий камень, щебень; дресва’, широко отмеченное в севернорусских говорах, представлено в За-онежье и Восточном Обонежье: верста ‘мелкодробленый камень, дресва’ Медв., Пуд., ср. гверста ‘мелкий камень, щебень; дресва’, широко известное псковским, новгородским, а также мурманским и некоторым западным говорам Архангельской и Вологодской областей. Вариант дверста ‘измельченный камень, крупный песок, используемый для очистки деревянных поверхностей’ Карг., Леш., Мез., Нянд., Онеж., Пин., Плес., Прим., Холм., Шенк. Арх., по всей вероятности, следует рассматривать как вторичную лексическую единицу, отражающую мену [г] ~ [д]. В описываемой зоне представлены единицы, образованные от верст -: ср. варианты названия камня, легко поддающегося дроблению, - верстеник Медв. версеник , версник Медв., Пуд. и. гверстенник Медв., Пуд., ‘рассыпчатый, легко поддающийся дроблению (о камне)’ - верслйвый , верстлйвый Медв. и гверсливый Медв., гверстливый ‘то же’ Медв. Карел., Остр.,
Н.-Сок., Н.-Рж., Оп., Пск., Пуст. Пск. Данное изменение охватывает в основном территории с прибалтийско-финским населением, живущим бок о бок с русскими. О форме верста А. И. Попов писал, что «можно быть уверенным в наличии финно-угорского фонетического воздействия, и действительно это областное слово олонецкого происхождения родилось в непосредственном окружении со стороны карел и вепсов» [11: 14]. 2. Можно предположить, что преобразование корня гверст - (если именно его считать первоисточником) в рест- произошло более сложным путем - упрощением группы согласных и последующей метатезой (?). В говорах Заонежья отмечено слово реслйвый ‘легко разрушающийся от удара, хрупкий’ Медв., ср. грестливый ‘с мелкими камешками, гверстливый’ Пск. Пск. Здесь отражается изменение гр- > р- , что имело место на начальном этапе, если принимать во внимание нововерхненемецкое Gries ‘дресва’, древневерхненемецкое Grios ‘дресва’ [11: 14], оставившее о себе память в заонежском слове, подвергшемся прибалтийско-финскому влиянию. Наиболее близким к германским словам является лексика данного семантического звена: гресва ‘песчаная земля с галькой’ Сузун. Новосиб., грества ‘дресва, крупный песок, мелкий щебень’ Велико-лукск. Пск., Мещов. Калуж., Твер., Пск., грества ‘мелкие осколки камня, дресва’ Вл., Кун., Локн., Холм. Пск., грествИвый ‘имеющий способность распадаться на мелкие камешки, дресву’ Пск., Осташк. Твер., гверствяный ‘то же’ Кун. Пск. и ‘содержащий крупный песок, мелкие камешки’ Вл. Пск., грестлИвый и грестлявый ‘с мелкими камешками, гверстливый’ Пск., гряства ‘крупный песок из развалившихся под действием жары и воды камней’ Мар., Молв. Новг. В данных словах отражается «значительное сходство с соответствующими иноязычными словами, не будучи, однако, заимствованиями в прямом смысле слова» [11: 14].
Освещая вопрос о фонетических изменениях при вхождении прибалтийско-финской топонимии в русскую в пределах Заонежья, И. И. Мул-лонен приводит примеры преобразования одиночных согласных в консонантные сочетания под воздействием tt -структуры русского анлаута, которая, по предположению исследователя, «провоцирует появление звукосочетаний пл -, кл -, др -, гл - в адаптированных прибалтийско-финских топонимах с инициальным одиночным согласным» [9: 286]:
Пламбина Ламбина (< кар. Iambi ‘лесное озеро’) в Толвуе, Климнос в Толвуе и Климмох в Кузаранде (< kim , kiim ‘токовище’), Хмелезеро < * Melajarvi ( mela ‘кормовое весло’) и др. [6: 286]. См. также [8: 177].
Прив еденные в данной работе материалы, лишь частично представляющие своеобразие заонежского говора, подтверждают наблюдения В. Н. Майнова:
«Заонежанин и говорит-то не так, как вообще севе-ряк, многое сохранил он из древненовгородского наречия, кое-что прихватил от всяких соседних “детей корельских”, и потому его говор сейчас узнаешь и отличишь заонежанина в толпе русских крестьян» [7: 89].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наряду с топонимией, богатейшая лексика говоров Заонежья, отражающая разные исторические пласты, с одной стороны, хранит интересные в этимологическом отношении корни, с другой – содержит инновационные единицы, возникшие на собственно русской основе, но изменившиеся под влиянием соседней иноструктурной – в данном случае прибалтийско-финской ‒ языковой систе- мы. Как показывает материал, лексикализация фонетических явлений происходит прежде всего при перестройке анлаута.
Представленный в данной работе материал показывает своеобразие заонежского диалекта как уникальной языковой системы, в которой проявляется тесная взаимосвязь единиц фонетического и лексического уровней. Такие явления, как заонежское «яканье» (ляпанье), мена звуков, ликвидация среднеязычного начального согласного, упрощение консонантных сочетаний в анлауте, обусловленные длительным сосуществованием русского и прибалтийско-финских народов, выделяют говор Заонежья на общесевернорусском фоне.
* Исследование выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий Программы развития опорного университета ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на 2019 год.
BALTIC-FINNISH PHONETIC COMPONENT IN THE LEXIS
OF THE ZAONEZHYE DIALECTS*
The article presents the main features of the dialect of the northern part of Lake Onega coast (Zaonezhye), which reflect the complex history of this territory settlement and the formation of a regional dialect system. It describes the phonetic phenomena that developed under the influence of the Baltic-Finnish languages: recessive shift of stress, accompanied by a change of first syllable vowels (such as lyázhit < lezhít, s tá boy < s tobóy ); transition of [j] into [g’] [d’] at the beginning of a word ( gízdit’ < yezdit’, des < *dezd < yezd ); simplification of consonant combinations ( gverstá > verstá, greslíviy < reslíviy ) and others. The article focuses on the lexicalization of certain phonetic phenomena, dialect words existing only in the Zaonezhye dialects.
* The study is carried out as part of the 2019 Development Program for PetrSU as a pillar university.
Cite this article as: Mikhailova L. P. Baltic-Finnish phonetic component in the lexis of the Zaonezhye dialects. Proceedings of Petrozavodsk State University. 2019. No 7 (184). P. 38–43. DOI: 10.15393/uchz.art.2019.399
Список литературы Прибалтийско-финский фонетический компонент в лексике говоров Заонежья
- Ардентов Б. П. К изучению заонежского диалекта // Ученые записки Кишиневского государственного университета. Кишинев, 1955. Т. X. С. 73-89.
- Герд А. С. К истории образования говоров Заонежья // Северно-русские говоры. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1979. Вып. 3. С. 206-213.
- Герд А. С., Лутовинова И. С., Михайлова Л. П., Рождественская Т. В. Этническая история Русского Севера в трудах языковедов и некоторые вопросы теории этногенез // Советская этнография. 1985. № 6. С. 28-37.
- Гринкова Н. П. К изучению олонецких диалектов // А. А. Шахматов. 1864-1920: Сб. ст. и материалов. М.; Л.: АН СССР, 1947. С. 365-392.
- Зайцева Н. Г. Очерки вепсской диалектологии (лингвогеографический аспект). Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2016. 395 с.
- Колесов В. В. Фонетические условия заонежского "яканья" // Русские говоры. К изучению фонетики, грамматики, лексики. М., 1975. С. 53-58.
- Майнов В. Н. Поездка в Обонежье и Корелу. СПб., 1874. 215 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// www.booksite.ru/fulltext/natural/pojezdka/text.pdf (дата обращения 11.09.2019).
- Муллонен И. И. Топонимия Заонежья: Словарь с историко-культурными комментариями. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. 242 с.
- Муллонен И. И. Фонетическая интеграция прибалтийско-финской топонимии в русскую топосистему Заонежья // Slavica Helsingiensia 27. The Slavicization of the Russian North. Mechanisms and Chronology. Ed. by Juhani Nuorluoto. Die Slavisierung Nordrusslands. Mechanismen und Chro nologie. Hrsg. von Juhani Nuorluoto. Helsinki, 2006. P. 283-293.
- Мызников С. А. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада: Этимологический и лингвогеографический анализ. СПб.: Наука, 2004. 492 с.
- Попов А. И. Из истории лексики языков Восточной Европы / Под ред. Ф. П. Филина. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1957. 134 с.
- Суханова В. С., Муллонен И. И. О г протетическом в русских говорах Карелии // Севернорусские говоры в иноязычном окружении. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского гос. ун-та, 1986. С. 38-45.
- Шахматов А. А. Отчет об этнографической поездке в Олонецкую губернию // Фольклорное наследие А. А. Шахматова / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В. И. Ереминой. СПб.: Изд-во РХГА, 2005. С. 758-759.
- Шахматов А. А. Отчет о поездке в Олонецкую губернию летом 1886 г. // Фольклорное наследие А. А. Шахматова / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В. И. Ереминой. СПб.: Изд-во РХГА, 2005. С. 760-762.
- Шахматов А. А. Русская диалектология: лекции / Под ред. Б. А. Ларина. С приложением очерка "Древнейшие судьбы русского племени". СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2010. 264 с.