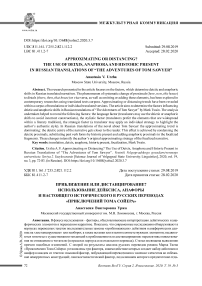Приближение или дистанцирование? Использование дейксиса, анафоры и настоящего исторического в русских переводах "Приключений Тома Сойера"
Автор: Уржа Анастасия Викторовна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 3 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
В фокусе исследования - факторы, обусловливающие интерпретацию дейктических и анафорических элементов в переводном нарративе. Показано, что современные исследования обнаруживают в корпусах переводных текстов последовательные замены «приближающих» дейктиков и анафорических единиц на «дистанцирующие» или наоборот, а также вставки или изъятия соответствующих элементов; выдвигаются гипотезы о существовании тенденций к приближению или дистанцированию перспективы повествования по отношению к читателю (в пределах корпуса или отдельного перевода). Статья посвящена выявлению причин подобных изменений. С опорой на результаты анализа русских переводов романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера» установлены три фактора, взаимодействие которых создает набор дейктиков и анафор в каждом из текстов: языковой фактор, побуждающий переводчиков к заменам элементов во избежание некорректных конструкций; лингвостилистический фактор, под влиянием которого предпочтение отдается элементам, распространенным в данной нарративной традиции; фактор применения индивидуальной стратегии, акцентирующей особенности оригинала. В русских переводах романа о Томе Сойере перечисленные условия формируют ряд тенденций, среди которых доминирует приближение дейктического центра повествования к читателю. Оно реализуется посредством конденсации «приближающих» дейктиков, замены форм прошедшего нарративного формами настоящего исторического и добавления «приближающих» анафор в фокализованных фрагментах повествования. Эти изменения интенсифицируют авторские приемы организации субъективированного нарратива.
Перевод, дейксис, анафора, настоящее историческое, субъективизация, марк твен
Короткий адрес: https://sciup.org/149131570
IDR: 149131570 | УДК: 811.161.1’255.2:821.112.2 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.3.7
Текст научной статьи Приближение или дистанцирование? Использование дейксиса, анафоры и настоящего исторического в русских переводах "Приключений Тома Сойера"
DOI:
Системные исследования функционирования дейктических и анафорических элементов в переводных нарративах, совмещающие методы корпусного изучения материала и традиционного лингвостилистического анализа текстов, появились в первом десятилетии XXI в. и поставили ряд новых вопросов перед лингвистами и переводоведами. Каковы причины добавления и опущения дейктиков и анафорических элементов в переводе? Можно ли объяснить закономерности в этой сфере только различием языковых систем или основания нужно искать в различных традициях оформления нарратива? Насколько важную роль в изменениях дейктиков может сыграть осознанный выбор переводчиком определенной стратегии и его ориентация на конкретную целевую аудиторию? В данной статье с учетом гипотез, высказанных в новейших исследованиях в этой области, представлены ответы на каждый из перечисленных вопросов, основанные на результатах анализа русских переводов романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера».
Материал и методы исследования
Кратко охарактеризуем теоретические основания, на которые опираются исследователи дейксиса и анафоры в переводах нарративных текстов, а также гипотезы, предложенные ими для проверки. Дейктические элементы (темпоральные, локативные и персональные) напрямую связаны с позицией говорящего или другого носителя точки зрения: в нарративе таким субъектом является повествова- тель (к его позиции отсылает аукториальный дейксис: Здесь я должен закончить свой рассказ) или фокальный персонаж (на локализацию его точки зрения указывают элементы персонажного дейксиса: Петя понял, что здесь ему не рады). Любые дейктические элементы в нарративе выполняют важную прагматическую функцию – они актуализируют для читателя так называемый «дейктичес-кий центр» повествования (подробнее об этом см.: [Levinson, 1983, р. 64]), позволяя приобщиться к точке зрения того или иного текстового субъекта 1. Персонажный дейксис, введенный в третьеличное повествование, усиливает субъективизацию нарратива – сближение позиции нарратора и героя [Виноградов, 1971, с. 189]. Дейктические элементы традиционно противопоставляют анафорическим, отмечая, что последние лишь устанавливают связи внутри текста, отсылая к упомянутому ранее лицу, месту, явлению и т. п. (Он уехал в деревню и там женился), при этом в различных контекстах слова с указательным значением могут выполнять и дейктическую, и анафорическую функции [Падучева, 2018, с. 78–79]. Однако как среди дейктических, так и среди анафорических элементов выделяются слова с семантикой приближения или отдаления от говорящего (в зарубежной традиции используются термины «proximals» и «distals» соответственно). Хотя обе группы слов, как мы отметили выше, актуализируют точку зрения героя для читателя (то есть способствуют фокализации нарратива), далее их функции в тексте различаются: дейктики и анафоры первого типа приближают события к носителю точки зрения (тут был стол, этот кувшин треснул), тогда как слова вто- рого типа дистанцируют описываемые факты и предметы от того, кто их воспринимает (там был сад, тот дом перестроили). То, что дейктические и анафорические элементы при переводе текста на другой язык могут различным образом изменяться, неоднократно отмечалось в классических трудах переводо-ведов и типологов (Дж. Кэтфорд, А.В. Федоров, У. Чейф, Т. Гивон, Я.И. Рецкер, В.Н. Ярцева и др.), а первое объемное корпусное исследование в этой сфере продемонстрировало распространенность таких изменений. Результаты этого исследования были опубликованы Я. Мейсоном и А. Шербан в статье “Deixis as an Interactive Feature in Literary Translations from Romanian into English” [Mason, Şerban, 2004]. На материале корпуса нарративных текстов (11 повестей и рассказов XX в.), переведенных с румынского языка на английский, авторы выявили и охарактеризовали последовательные изменения дей-ктических показателей, сопряженные с дистанцированием точки зрения на события. Основным предметом исследования стали указательные местоимения (this / that, these / those и их румынские эквиваленты), а также наречия (here / there, now / then и их румынские эквиваленты), формирующие оппозицию, обозначенную в статье как «приближающие / дистанцирующие дейктические элементы» На фоне этой оппозиции изучались также замены настоящего исторического на прошедшее нарративное в английских переводах румынских текстов.
Я. Мейсон и А. Шербан применили к выбранному материалу и методы корпусных исследований, и традиционный лингвостилистический анализ. В 11 выбранных ими типовых фрагментах текстов была обнаружена устойчивая тенденция к замене «приближающих» дейктических элементов на «дистанцирующие» (this на that, now на then, настоящее историческое на прошедшее нарративное и т. п.), опущению «приближающих» и добавлению «дистанцирующих» элементов 2. Авторы подчеркнули, что все обнаруженные замены не обусловлены расхождением языковых систем, переводчик в каждом случае мог сделать и другой выбор, но предпочел именно это решение. Результаты, полученные Я. Мейсоном и А. Шербан, имеют большой научный потенциал, хотя некоторые аспекты использованной ими методики анализа представляются спорными: тексты переведены на английский язык румынскими переводчиками, то есть язык перевода был для них неродным; слова типа then, that имеют в английском языке целый ряд недейктических омонимов, что затрудняет интерпретацию статистических замеров; в работе нет четкого разграничения вторичного дейксиса и анафоры; опущение элемента может сопровождаться передачей смысла при помощи другого средства (артикля, конструкции), что не учтено в анализе. Однако исследователи впервые объединили разные типы анализа дейктиков, проверяя статистические подсчеты разбором фрагментов текста, рассмотрели не только магистральные, но и противоположные тенденции в переводах, подчеркивая, что выбор дейктика – результат сложного процесса интерпретации перспективы оригинального текста переводчиком. Общий вывод Я. Мейсона и А. Шербан сводится к постулированию дистанцирующей тенденции, охватывающей все изученные переводы, но обусловленной не расхождением грамматических систем языков, а особенностями интерпретации нарратива при переводе с румынского на английский. По мнению авторов, предпочтение «дистанцирующих» элементов может быть связано с их большей распространенностью в нарративной традиции, немаркированностью [Mason, Şerban, 2004, р. 270, 274].
Опыт Я. Мейсона и А. Шербан был учтен другими исследователями. Опираясь на корпус голландских текстов и их испанских переводов, П. Гуталс и Дж. Де Вилде отметили, что этот материал не демонстрирует столь явной тенденции к дистанцированию (или, напротив, приближению) точки зрения на события. Однако для каждого из выбранных произведений авторы смогли обнаружить определенные закономерности в передаче дей-ктических смыслов, связанные с особенностями перспективы оригинального текста и переводческими приемами ее воссоздания [Goethals, De Wilde, 2009, р. 791–792]. Авторы выдвинули гипотезу о том, что важным фактором формирования «приближающей / дистанцирующей» тенденции может стать манера переводчика, его «прочтение» оригина- ла, обусловленное спецификой перспективы произведения.
В современных отечественных исследованиях дейксиса и анафоры в переводных нарративах можно выделить два направления: это работы, в которых авторы фокусируются на проявлениях языковых различий при функционировании соответствующих элементов в текстах (О.Л. Муковский, Д.О. Добровольский и др.), и труды, в которых авторы обращаются к нюансам использования дейктиков и анафорических единиц в рамках конкретных оригинальных произведений и их переводов (О.Г. Мельник, В.А. Немкова и др.).
Основываясь на опыте проведенных исследований и на выдвинутых в них гипотезах, можно выделить три фактора, обусловливающие изменения дейктиков и анафорических элементов в переводах повествовательных текстов:
– расхождение языковых систем (невозможность использовать эквивалентный элемент в конкретном фрагменте текста);
– различие в лингвостилистических традициях оформления нарратива (эквивалент нельзя ввести ввиду его стилистической маркированности, нераспространенности и т. п.);
– реализация индивидуальной переводческой стратегии, основывающейся на интерпретации оригинального текста (ср.: [Мельник, 2017, с. 40–41]) и ориентирующей переводной текст на определенную (например, детскую) целевую аудиторию.
Эти факторы находятся в тесном взаимодействии, и их соотношение при создании конкретных переводных текстов недостаточно изучено. В данной статье представлены результаты сопоставительного анализа тринадцати русских переводов и оригинального текста романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера». В работе использован метод сопоставительного функционально-семантического анализа англоязычного текста и его переводов, при котором материал рассматривается в ракурсе интерпретации смыслов, заложенных автором текста, и функций, реализуемых задействованными им языковыми средствами. В исследовании комбинируются методики количественного и лингвостилистического анализа функционирования дейктиков и анафорических элементов.
Результаты и обсуждение
Специфика организации повествовательной перспективы в оригинальном тексте романа
Роман Марка Твена «Приключения Тома Сойера» не является третьеличным повествованием «в чистом виде»: значительная часть произведения представляет собой субъективированный нарратив, в котором изложение повествователя «охватывается личной точкой зрения» (выражение В.В. Виноградова) кого-то из персонажей: Тома, Гека, тети Полли, учителя воскресной школы, Бекки и др. Сюжетные коллизии, описания природы и быта подаются сквозь призму особенностей восприятия, эмоций, оценок, догадок и открытий героев. Такие смыслы реализуются при помощи целого спектра эгоцентрических средств языка (термин, введенный в русскую научную традицию Е.В. Падучевой [Падучева, 2018]), в том числе и дейкти-ков. Приведем пример из анализируемого романа:
-
(1) His soul was at peace, now that he had settled with Sid for calling attention to his black thread and getting him into trouble 3. – Теперь , когда он рассчитался с предателем Сидом, указавшим тете Полли на черную нитку, в душе у него воцарился покой (пер. Н. Дарузес 4).
Помимо субъективированных фрагментов третьеличного нарратива, в романе есть целый ряд вкраплений свободного косвенного дискурса, где реализуется тип ситуаций, которые описаны Е.В. Падучевой следующим образом: «персонаж “узурпирует” эгоцентрический пласт языка – как дейктическую, так и экспрессивно-диалогическую области», а на месте повествователя «возникает особая фигура ... 3-е лицо, которое обладает всеми правами 1-го» [Падучева, 2010, с. 337]. К такого типа ситуациям можно отнести, например, размышления Тома после ссоры с Бекки:
-
(2) Yes, it was settled; his career was determined. He would run away from home and enter upon it. <...> Therefore he must now begin to get ready. – Да, решено; он избрал свой жизненный путь. Он бежит из дому и начнет новую жизнь. <...> Значит, готовиться надо уже сейчас (пер. Н. Дарузес).
Наряду с персонажным дейксисом, активно используемым во фрагментах субъективированного нарратива и свободного косвенного дискурса, в романе есть и аукториаль-ный дейксис, отсылающий к позиции создателя текста. При этом если персонажные дей-ктики наделены функцией приближения точки зрения героев к читателю, приобщения его к их мыслям и впечатлениям, то аукториаль-ный дейксис, напротив, подчеркивает дистан-цированность событий сюжета от момента повествования:
-
(3) For ten yellow tickets the superintendent gave a very plainly bound Bible (worth forty cents in those easy times ) to the pupil. – А за десять желтых директор давал ученику Библию в простеньком переплете (стоившую сорок центов в те блаженные времена ) (пер. М. Энгельгардта).
Дистанцированность эта не только временная, но и концептуальная – автор изредка напоминает читателю о фикциональности, условности повествования, создаваемого по воле фантазии:
-
(4) We will leave them to smoke and chatter and brag, since we have no further use for them at present . – Что же, остав им их ненадолго – пусть себе курят, болтают и хвастаются, нам они пока не нужны (пер. С. Ильина).
Итак, повествовательная перспектива романа довольно сложна: нарратив «расцвечивается» субъективными смыслами, связанными с персонажами, и читатель то оказывается невольным свидетелем событий сюжета, то узнает о сокровенных мыслях и эмоциях героев, то «слышит» обращенные к нему сентенции повествователя, который делится с ним воспоминаниями о прошлом и приглашает следовать далее по страницам романа. Зарубежные исследователи произведения привлекают для описания его перспективы представление о полифонии и концепцию двуголосого слова М.М. Бахтина (см., например: [Lynch, 2006]), изучают специфические приемы представления точек зрения персонажей в контексте авторского изложения. Мощные тенденции к субъективизации текста влияют на прочтение романа переводчиками – они регистрируют этот авторский прием и стремятся воспроизвести его. Однако контекст воспоминания, обращения к прошлому, наличие повествовательной рамки в романе тоже требуют полноценного отображения. Рассмотрим, как особенности оригинального текста воплотились в русских переводах.
Интерпретация аукториального и персонажного дейксиса в переводах романа
Приведенные выше русские переводы некоторых фрагментов оригинала показывают, что система языка представляет переводчикам полноценный репертуар средств, эквивалентных дейктикам оригинала. Однако, последовательно сопоставляя исходный текст с его русскоязычными версиями, исследователь заметит, что дейктические элементы могут как сохраняться, так и изменяться при интерпретации романа. Рассмотрим, в каких случаях происходят изменения и какие причины за ними стоят.
Тенденции, обнаруженные нами в переводах, различаются для аукториального и персонажного дейксиса. Аукториальные дейкти-ки легко опознаются и адекватно интерпретируются переводчиками: эти элементы играют важную роль в конструировании нарративной рамки. Подчеркнем, однако, что они немногочисленны, поскольку повествование ведется от третьего, а не от первого лица. Персональный аукториальный дейксис ( I , me , us ) реализован всего в 7 контекстах, темпоральный ( at present , now – in those times , in those days , in that day, ago ) – в 11 контекстах. Русские переводчики не меняют значения этих элементов, «дистанцирующих» описываемые события от времени повествования о них, например:
-
(5) There was once a church choir that was not ill-bred, but I have forgotten where it was, now . It was a great many years ago , and I can scarcely remember anything about it, but I think it was in some foreign country. – Я видел однажды более благовоспитанный церковный хор, однако теперь уж забыл – где именно. С той поры столько лет прошло, что я почти ничего и не помню, – по-моему, это случилось со мной в какой-то чужеземной стране (пер. С. Ильина).
Зона персонажного дейксиса в романе гораздо более объемна (135 контекстов). Она конструируется при помощи ограниченного, но весьма частотного набора средств, среди которых выделяются слова here, now, tonight, at present. Дейктики появляются во фрагментах, призванных привлечь наше особое внимание: это напряженно переживаемые героями значимые моменты сюжета. Функция таких элементов – повышение субъективизации повествования и приближение точки зрения фокального персонажа к читателю. В русских переводах соответствующих фрагментов количество «приближающих» дейктиков сохраняется либо увеличивается, переводчики «конденсируют» их, подчеркивая авторский прием:
-
(6) Bringing water from the town pump had always been hateful work in Tom’s eyes, before, but now it did not strike him so. – До сей поры таскание воды от городского насоса неизменно представлялось Тому занятием пренеприятным, теперь же он увидел оное совсем в ином свете (пер. С. Ильина);
-
(7) This new interest was a valued novelty in whistling, which he had just acquired from a negro, and he was suffering to practise it un-disturbed. – Сейчас такой новинкой была особая манера свистеть, которую он только что перенял у одного чернокожего, и теперь было самое время без помех поупражняться в этом искусстве (пер. А. Климова).
Даже если фрагмент фокализован за счет других эгоцентрических средств (эмотивной и оценочной лексики, слов и конструкций, предполагающих наличие наблюдателя, и т. п.), переводчики регулярно добавляют в него дей-ктические элементы со значением приближения, подчеркивая и усиливая субъективизацию нарратива:
-
(8) She went to the open door and stood in it and looked out among the tomato vines and “jimpson” weeds that constituted the garden. No Tom. – Подойдя к открытой настежь двери, она остановилась на
пороге и обвела взглядом свой огород – грядки помидоров, заросшие дурманом. Тома не было и здесь (пер. Н. Дарузес);
-
(9) Tom chased the traitor home, and thus found out where he lived. He then held a position at the gate for some time, daring the enemy to come outside. – Том гнался за ним до самого дома и таким образом узнал, где он живет. Тут он постоял некоторое время у ворот, приглашая врага выйти (пер. М. Энгельгардта);
-
(10) Tom did play hookey, and he had a very good time. – Том и в самом деле не ходил нынче в школу и очень весело провел время (пер. К.Чуков-ского).
Вставка «приближающих» дейктиков в фока-лизованных фрагментах повествования обнаружена во всех русских переводах романа, однако частотность таких вставок различается: наиболее активно их используют К. Чуковский, С. Ильин и А. Климов. Общее количество основных дейктических элементов в их переводах превышает аналогичные показатели в других русскоязычных версиях (для подсчета были взяты 5 полных оцифрованных переводов романа) (табл. 1).
Фактором повышения количества «приближающих» дейктиков в версиях К. Чуковского, С. Ильина и А. Климова становится выбранная ими переводческая стратегия воссоздания перспективы романа: яркий авторский прием субъективизации, сообщающий повествованию дополнительную увлекательность, акцентируется, чтобы читатель испытал ощущение «погружения» в хронотоп повествования. Именно в упомянутых переводах романа мы наблюдаем и неоднократные замены «дистанцирующих» дейктических показателей на «приближающие»:
-
(11) Then Tom marched out of the house and over the hills and far away, to return to school no more that day . – Том, громко топая, покинул класс и на-
Таблица 1. Количество основных дейктиков в русских переводах романа
Table 1. The number of common deictic words in the Russian translations of the novel
Автор перевода
Дейктики
Итого
Сегодня
Сейчас
Нынче
Теперь
Здесь
Тут
Вот
Воскресенская С.
0
2
0
57
22
46
13
140
Дарузес Н.
1
9
3
62
11
32
20
138
Чуковский К.
4
10
4
65
10
41
32
166
Ильин С.
4
17
0
57
14
33
36
161
Климов А.
6
14
0
54
18
68
14
174
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ правился к холмам, а там и за них, решив, что в школу сегодня не вернется (пер. С. Ильина);
-
(12) In fact, everything seemed to be drifting just in the right direction, now; the treasure must be still in No. 2, the men would be captured and jailed that day , and he and Tom could seize the gold that night without any trouble or any fear of interruption. – Да, дела как будто складываются очень неплохо: сундучок, должно быть, до сих пор остается в номере втором, обоих негодяев поймают сегодня же и посадят в тюрьму, а нынче ночью он и Том без хлопот, никого не боясь, пойдут и захватят все золото (пер. К. Чуковского).
Слово сегодня является, по мнению Е.В. Падучевой, «первичным эгоцентриком», а значит, может появиться в третьеличном нарративе только в рамках свободного косвенного дискурса [Падучева, 2018, с. 47]. В оригинале исследуемого романа слово today в качестве персонажного дейктика не задействовано. Таким образом, именно зона свободного косвенного дискурса расширяется при переводческих изменениях.
Итак, аукториальный и персонажный дейксис воспроизводится в русских переводах романа по-разному. На наш взгляд, это различие связано с теми функциями, которые выполняют в романе слова, относимые к двум сферам: немногочисленные «дистанцирующие» аукто-риальные дейктики, связанные с ретроспективной рамкой повествования-воспоминания, воспроизводятся без изменений, тогда как «приближающие» персонажные дейктики возрастают в количестве, что может быть объяснено влиянием оригинального приема субъективизации, воссоздавая который ряд переводчиков конденсирует соответствующие средства в русских текстах. Увеличение количества дей-ктиков, замена «дистанцирующих» показателей на «приближающие», расширение зоны свободного косвенного дискурса в переводах становится частью индивидуальных переводческих стратегий.
Появление форм настоящего исторического в русских переводах романа
Повествование в романе ведется в прошедшем времени: задействованы английские формы Past Simple, Past Continuous и Past
Perfect. При этом и контексты свободного косвенного дискурса содержат только формы прошедшего времени или формы Future in the Past (эта нормативная характеристика, как отмечено Е.В. Падучевой, отличает англоязычный свободный косвенный дискурс от русской несобственно прямой речи, включающей формы презенса [Падучева, 2010, с. 343–350]). Обращаясь к истории развития английского нарратива, можно заметить, что использование настоящего исторического допускалось в повествовательных текстах и в XIX в., и в ХХ в., однако было ограничено по сравнению с русской стилистической традицией (F. Bjorling, R. Huddleston, G.K. Pullum). В конце XIX в. в русской литературе уже появлялись тексты, полностью или почти полностью оформленные в нарративном презен-се (например, «Шуточка» А.П. Чехова), тогда как в английской литературе эта форма оставалась ярким средством, «жирным шрифтом», чрезмерного использования которого советовали избегать [Royster, Thompson, 1919] (неслучайно и К. Гарнетт, и М. Фелл в начале XX в. перевели «Шуточку» на английский язык при помощи форм прошедшего времени [Urzha, 2016]). Различия лингвостилистических традиций оформления нарратива можно считать одним из факторов, обусловивших распространение презенсных форм в русских переводах романа М. Твена. Настоящее историческое в них появляется, конкурируя с прошедшим нарративным, в первую очередь в кульминационных фрагментах текста. Так, в версии Л. Гольдмерштейна формы презен-са представлены в переводе фрагмента, где Том пытается скрыть от тети Полли, что он прогулял школу:
-
(13) Томъ начинаетъ что-то подозр h вать и чув-ствуетъ себя не совс h м ловко. Онъ всматривается въ лицо тети Полли, но оно ему ничего не говоритъ . Онъ отв h чаетъ ... (пер. Л. Гольдмерштейна).
В переводе В. Исполатова при помощи форм настоящего исторического выделен момент неожиданного получения Томом награды в присутствии жителей всего городка:
-
(14) Въ тотъ самый моментъ, когда, казалось, была потеряна всякая надежда ув h нчать достой-нымъ образомъ такое событiе... вдругъ выступа-
- етъ впередъ Томъ Сойеръ, держа въ рукh девять желтыхъ, столько же красныхъ и десять синихъ би-летовъ и требуетъ библiю (пер. В. Исполатова).
Наиболее ярко тенденция к субъективизации посредством настоящего исторического проявляется в переводе К. Чуковского, при этом в процессе редактирования (с 1935 по 1958 г.) количество соответствующих форм в его варианте увеличилось. Приведем часть фрагмента в финальной редакции К. Чуковского, сопоставляя с вариантом М. Энгельгардта, использовавшего, как в оригинале, прошедшее время:
-
(15) The new boy took two broad coppers out of his pocket and held them out with derision. Tom struck them to the ground. In an instant both boys were rolling and tumbling in the dirt, gripped together like cats. <...> Presently the confusion took form , and through the fog of battle Tom appeared , seated astride the new boy, and pounding him with his fists. “Holler ‘nuff!” said he.
Незнакомый мальчик вынул из кармана два медяка и насмешливо протянул их. Том бросил их на землю. В следующее мгновение оба мальчика катались и барахтались в пыли, сцепившись, как кошки. <...> Затем схватка приняла более определенный характер; в тумане сражения выделилась фигура Тома, который сидел верхом на своем противнике и тузил его кулаками. «Живота или смерти?» – спрашивал он (пер. М. Энгельгардта);
Чужой мальчик вынимает из кармана два больших медяка и с усмешкой протягивает Тому. Том ударяет его по руке, и медяки летят на землю. Через минуту оба мальчика катаются в пыли, сцепившись, как два кота. <...> Наконец неопределенная масса принимает отчетливые очертания, и в дыму сражения становится видно , что Том сидит верхом на враге и молотит его кулаками. «Проси пощады!» – требует он (пер. К.Чуковского).
Знакомство Тома с мальчиком-франтом и последующая драка – наглядные, динамичные сценки, представленные то с точки зрения Тома, то с позиции соприсутствующего наблюдателя, перемежаемые диалогами, которые читатель словно «слышит» вместе с персонажами. Вариант К. Чуковского «вовлекает» читателя в описываемую ситуацию, приближает к нему дейктический центр нарратива. Решение К. Чуковского не уникально, сцену драки «украсили» формами настоящего исторического Е. Кудашева и Н. Дарузес:
-
(16) Скоро неразбериха прояснилась, и сквозь дым сражения стало видно, что Том оседлал нового мальчика и молотит его кулаками (пер. Н. Дарузес);
Кричи «довольно»! – а тумаки так и сыпятся (пер. Е. Кудашевой).
Однако для К. Чуковского использование Praesens Historicum стало частью последовательной стратегии. Влияние на нее могли оказать, на наш взгляд, безглагольные «ремарки», соседствующие в оригинале с диалогами и «прочитываемые» в презенсе (как известно, роман начинается с них: “Tom!” – No answer. – “Tom!” – No answer ). Частотность использования форм настоящего исторического и безглагольных конструкций в первой главе романа (исключая диалоги) представлена в таблице 2.
На фоне других выделяются переводы Л. Гольдмерштейна и С. Ильина, однако даже первая версия К. Чуковского превосходит их по количеству конструкций в презенсе почти вдвое. В 1958 г. общее количество таких элементов в первой главе романа в переводе К. Чуковского выросло в два раза: настоящее историческое тесно взаимодействует с персонажными дейктиками и создает яркие «картины» событий: читатель становится зрителем, почти участником игр, потасовок, проказ Тома.
Напротив, среди ранних переводов романа есть несколько таких, в которых установка на использование прошедшего времени при описании событий сюжета охватывает и интерпретацию некоторых безглагольных «ремарок» оригинала (см. табл. 2), например:
-
(17) Том! Ответа не было . Том! Ответа опять не было (анонимный перевод, 1918).
В этом случае можно говорить о дистанцировании дейктического центра повествования при переводе. Такие явления связаны с индивидуальными решениями переводчиков, обусловленными, на наш взгляд, представлением о традиционном нарративе в прошедшем времени (безглагольные «ремарки», драматизирующие повествование у М. Твена, выступают на фоне такой традиции экспериментальным приемом). Однако подобные решения немногочисленны. Именно стремление большинства переводчиков воспроизвести специ- фику авторских приемов субъективизации и драматизации нарратива приводит к появлению в русских версиях романа настоящего исторического – формы, входящей в нормативный репертуар средств, «приближающих» читателя к хронотопу повествования.
Опущения и вставки анафорических элементов в русских переводах
В нарративе слова this / that – этот / тот реализуют преимущественно анафорическую функцию, отсылая к уже упомянутым объектам и явлениям. Рассмотрим переводы романа в контексте указанной Я. Мейсоном и А. Шербан возможности предпочтения «приближающего» (этот) или «дистанцирующего» (тот) показателя. Сплошной подсчет соответствующих местоимений в оригинальном тексте М. Твена подтверждает наши наблюдения о субъективированном характере повествования: в речи нарратора «приближающие» указательные местоимения преобладают (соотношение 3 : 2, в частности 181 this при 127 that). Тенденции, обнаруженные в русских переводах, связаны как с языковыми, так и с текстовыми условиями. Регулярная передача слова this как это (этот, эта) наблюдается у переводчиков, склонных к калькированию конструкций оригинала (например, у С. Воскресенской, М. Энгельгардта), в то время как создатели более свободных версий перевода (К. Чуковский, Н. Дарузес, С. Ильин, А. Климов) интерпретируют соответствующие смыслы с опорой на контекст, нередко опуская слово этот в конкретном сочетании, но добавляя его в ближнем окружении предложения. Действительно, слова этот / тот далеко не всегда являются наиболее точными русскими коррелятами указательных английских местоимений. Как показано О.Л. Муковским, семантика соответствующих элементов может передаваться при помощи порядка слов, других лексем [Муковский, 2015, с. 51]. Слова этот и тот могут добавляться переводчиками там, где контекст предполагает такую возможность. Количественная характеристика использования указательных местоимений в оригинале и переводах первой главы романа представлена в таблице 3.
В таблице показано взаимодействие языкового и текстового факторов интерпретации сочетаний с указательными местоимениями: с одной стороны, переводчики опускают их или используют альтернативные возможности русского языка для передачи значений оригинальных сочетаний (например, при помощи
Таблица 2. Представленность форм настоящего исторического и конструкций с нулевой связкой в оригинале и переводах первой главы романа
Table 2. The number of the verbs in historic present and sentences with zero copula in the original and in the translations of the 1st chapter of the novel
|
Источник |
Глагольные формы в Praesens Historicum и номинативные предложения с нулевой связкой |
|
Оригинал |
5 (только конструкции с нулевой связкой) |
|
Воскресенская С., 1896 |
6 |
|
Гольдмерштейн Л., 1898 |
9 |
|
Николаева М., 1901 |
2 |
|
Исполатов В., 1904 |
3 |
|
Анонимный перевод, 1907 |
2 |
|
Кудашева Е., 1911 |
6 |
|
Энгельгардт М., 1911 |
4 |
|
Анонимный перевод, 1918 |
0 |
|
Журавская З., 1919 |
5 |
|
Чуковский К., 1935 |
19 |
|
Чуковский К., 1958 |
39 |
|
Дарузес Н., 1948 |
6 |
|
Ильин С., 2011 |
12 |
|
Климов А., 2012 |
7 |
местоимения такой ), с другой стороны, они добавляют в свой текст преимущественно «приближающие» указательные местоимения, следуя общей тенденции к вовлечению читателя в события повествования, причем более активно изменяют текст К. Чуковский, Н. Да-рузес, С. Ильин и А. Климов. Проиллюстрируем вышеприведенную статистику несколькими примерами. М. Энгельгардт воспроизводит конструкцию с анафорическим местоимением практически дословно, тогда как К. Чуковский перестраивает ее:
-
(18) This new interest was a valued novelty in whistling, which he had just acquired from a negro. –
Это новое увлечение относилось к интереснейшему способу свиста, которому научил его один негр (пер. М. Энгельгардта);
Том в настоящее время увлекся одной драгоценной новинкой: у знакомого негра он перенял особую манеру свистеть (пер. К. Чуковского) 5.
Вставки слова этот обнаруживаются в переводах там, где наиболее интенсивно проявляется внутренняя фокализация, например:
-
(19) Чем дольше разглядывал он это дивное диво , чем выше задирал нос перед его франтовством, тем более и более убогим представлялось Тому собственное облачение (пер. С. Ильина).
Таким образом, если языковой фактор обусловливает пропуск «приближающих» местоимений, то фактор текстовый побуждает переводчиков этот пропуск компенсировать. В итоге в русских переводах романа изобилуют не только дейктики, но и «приближающие» указательные местоимения в анафорической функции.
Выводы
Результаты текстового и количественного анализа русских переводов романа М. Твена «Приключения Тома Сойера» позволяют подтвердить действие трех факторов, обусловливающих интерпретацию дейктических и анафорических элементов. Это языковой фактор, позволяющий переводчикам задействовать репертуар дейктиков и анафорических единиц, а также заменять эти элементы другими средствами, избегая некорректных или калькирующих конструкций. Это лингвостилистический фактор, способствующий выбору определенных средств в случае их распространенности в рамках литературной традиции. Это текстовый фактор, детерминирующий применение определенной переводческой стратегии для того, чтобы раскрыть, акцентировать осо-
Таблица 3. Вставки и опущения анафорических указательных местоимений в переводах первой главы романа
Table 3. Added and omitted anaphoric demonstrative pronouns in the translations of the 1st chapter of the novel
|
Источник |
This |
That |
Нет в оригинале, добавлены в переводе |
|
Оригинал |
4 this |
4 that |
– |
|
Воскресенская С. |
3 этот 1 опущено |
3 этот 1 переведено иначе |
3 этот |
|
Энгельгардт М. |
3 этот 1 опущено |
2 этот 2 опущены |
2 этот |
|
Чуковский К. |
4 опущены |
3 опущены 1 переведено иначе |
6 этот 3 тот |
|
Дарузес Н. |
1 этот 2 опущены 1 переведено иначе |
3 опущены 1 переведено иначе |
7 этот 4 тот |
|
Ильин С. |
2 этот 2 опущены |
3 опущены 1 переведено иначе |
4 этот 2 тот |
|
Климов А. |
2 этот 2 опущены |
4 опущены |
2 этот 4 тот |
Примечание. Обозначения этот / тот в таблице указывают на использование соответствующего указательного местоимения в форме любого рода, числа, падежа.
бенности оригинального текста и донести их до новой аудитории. Перечисленные факторы в совокупности влияют на формирование набора тенденций, среди которых доминирует приближение дейктическогого центра повествования к читателю в русских переводах. Оно осуществляется посредством конденсации «приближающих» дейктиков ( здесь , сейчас , сегодня , нынче и т. п.), замены ряда форм прошедшего нарративного в повествовании формами настоящего исторического и добавления «приближающих» анафорических элементов это ( этот , эта , эти ) в фокализо-ванных контекстах повествования. Все эти переводческие решения актуализируют авторские приемы организации субъективированного нарратива, заключающиеся в активном использовании персонажных дейктиков, в снабжении диалогов безглагольными «ремарками» в презенсе и в целом в широком привлечении разнообразных эгоцентриков, «приближающих» точку зрения повествователя к позиции фокальных персонажей. Сопоставляя русские переводы романа друг с другом, можно выявить версии, где установка на акцентирование авторских приемов порождает продуманную переводческую стратегию, последовательно реализуемую в тексте. Оставляя за рамками научного анализа критические оценки переводов, отметим, что эти версии снискали популярность среди невзрослых читателей. Расширяя контекст исследования, подчеркнем, что тенденции к «приближению» дей-ктического центра регистрируются и на материале русских интерпретаций других англоязычных нарративов (переводов книг П. Трэ-верс, К.С. Льюиса и др. [Urzha, 2016]), однако это явление во всех случаях оказывается результатом сложного взаимодействия ряда перечисленных факторов и требует дальнейшего изучения.
Список литературы Приближение или дистанцирование? Использование дейксиса, анафоры и настоящего исторического в русских переводах "Приключений Тома Сойера"
- Апресян Ю. Д., 1986. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. С. 5-33.
- Виноградов В. В., 1971. О теории художественной речи. М. : Высш. шк. 240 с.
- Мельник О. Г., 2017. Роль дейксиса в интерпретации художественного произведения // Вестник Томского государственного университета. Филология. № 46. С. 31-42. DOI: https:// doi. org/10.17223/19986645/46/3.
- Муковский О. Л., 2015. Количественные и функциональные характеристики анафоры и дейкси-са в английском, испанском и русском языках // Научное мнение. № 2-1. С. 47-59. Падучева Е. В., 2010. Семантические исследования.
- М. : Яз. слав. культуры. 480 с. Падучева Е. В., 2018. Эгоцентрические единицы языка. М. : ЯСК. 440 с.
- Goethals P., De Wilde J., 2009. Deictic Center Shifts in Literary Translation: The Spanish Translation of Nooteboom's Het Volgende Verhaal // Meta. Vol. 54, № 4. P. 770-794. DOI: https://doi.org/ 10.7202/038903ar.
- Levinson S., 1983. Pragmatics. Cambridge : Cambridge University Press. 420 p. Lynch P., 2006. Not Trying to Talk Alike and Succeeding: The Authoritative Word and Internally-Persuasive Word in Tom Sawyer and Huckleberry Finn // Studies in the Novel. Vol. 38, № 2. P. 172-186.
- Mason I., §erban A., 2004. Deixis as an Interactive Feature in Literary Translations from Romanian into English // Target. Vol. 15, iss. 2. P. 269-294. DOI: https://doi.org/10.1075/target. 15.2.04mas.
- Royster J. F., Thompson S., 1919. Guide to Composition. Chicago : Scott, Foresman and Co. 204 p.
- Urzha A. V., 2016. The Foregrounding Function of Praesens Historicum in Russian Translated Adventure Narratives (20th century) // Slovene = C^OBhHe. International Journal of Slavic Studies. Vol. 5, № 1. P. 226-248. DOI: https://doi.org/ 10.31168/2305-6754.2016.5.1.9.