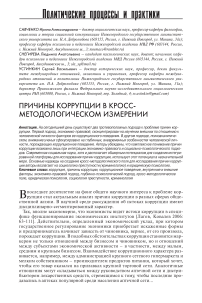Причины коррупции в кросс-методологическом измерении
Автор: Савченко Ирина Александровна, Снегирева Людмила Анатольевна, Устинкин Сергей Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 5, 2018 года.
Бесплатный доступ
На сегодняшний день существуют два противоположных подхода к проблеме причин коррупции. Первый подход, экономико-правовой, сконцентрирован на изучении внешних по отношению к человеческой личности факторов ее коррупционного поведения. В другом подходе, психоаналитическом, внимание ученых сфокусировано на глубинных, вневременных особенностях человеческой личности, порождающих коррупционное поведение. Авторы убеждены, что комплексное понимание причин коррупции возможно лишь при интеграции экономико-правового и социально-психологического подходов. Современная социальная наука, хотя и располагает обширным потенциалом для создания интегрированной платформы для исследования причин коррупции, использует этот потенциал в незначительной мере. Основные надежды на создание кросс-методологического поля для исследования причин коррупции авторы возлагают на социологию преступности (криминологию) и юридическую психологию.
Коррупция, причины коррупции, коррупционное поведение, внутренние и внешние факторы, экономико-правовой подход, глубинно-психологический подход, кросс-методологическое поле, юридическая психология, социология преступности, криминология
Короткий адрес: https://sciup.org/170169051
IDR: 170169051 | DOI: 10.31171/vlast.v26i5.5818
Текст научной статьи Причины коррупции в кросс-методологическом измерении
В последнее десятилетие на фоне общего научного интереса к проблеме коррупции стал актуальным анализ причин коррупции в разных сферах общественной жизни. В научной среде рассуждения об истоках коррупции имеют дисциплинарно-сегментированный характер.
Так, вполне закономерно, что экономисты видят истоки коррупции в специфике функционирования экономических институтов [Лагов, Ковалев 2006: 63-111]. Действительно, определенный экономический уклад, при котором государственное регулирование экономики приобретает искаженные формы и предприниматель начинает зависеть от чиновника, вернее, от его произвола, порождает коррупцию. В подобных обстоятельствах коррупция становится маркером не только отношений между бизнесом и чиновником, но и отношений между субъектами экономической активности – в частности, между малым, средним и крупным бизнесом. Взаимодействие коррупционного характера развивается, например, между администрацией крупного сетевого гипермаркета и мелким собственником – производителем продуктов питания, который хочет, чтобы его товар оказался на прилавках крупной торговой сети. Аналогичные отношения могут складываться между руководством аптечной сети и дистрибьютором лекарственных средств, стремящимся к тому, чтобы последние продавались в аптеках популярной среди населения аптечной сети...
Правоведы видят причину коррупции в несовершенстве законодательной базы [Яновский 2010], недостаточно строгом контроле за потенциальными коррупционерами, неразработанности системы предупреждения коррупции, недостаточно строгом наказании лиц, совершивших коррупционные преступления. Отметим, что в последние десятилетия экономические и правовые факторы коррупции, как правило, рассматриваются в комплексе, особенно в русле проблем обеспечения экономической безопасности стратегически важных промышленных отраслей [Архипов, Ребров, Ханахмедов 2016] и государства в целом [Треушников 2017].
В работах административно-управленческой направленности наблюдается тенденция к интегрированию этических и правовых аспектов коррупционного поведения. Соответственно, механизм противодействия коррупции в данном случае видится в административно-правовом регулировании этики и служебного поведения персонала [Ватель 2012].
Нужно признать, что именно в юриспруденции, экономике и теории управления на сегодняшний день накоплен колоссальный исследовательский опыт в сфере изучения вопросов коррупции. Этот опыт является весьма ценным и значимым, и именно к нему нужно обращаться в первую очередь при изучении проблем коррупции.
Вместе с тем для описанных дисциплинарных позиций характерно определение исключительно внешних по отношению к человеческой личности причин коррупции. Невнимание к «человеческому фактору» стимулировало появление другой крайности – объяснению причин коррупционного поведения исключительно факторами глубинно-личностного характера. Такой подход характерен для восточноевропейской школы психоанализа (г. Санкт-Петербург). Так, один из ее наиболее ярких современных представителей М.М. Решетников убежден, что истоки коррупции следует искать в человеческой природе, во внутреннем мире и архетипических особенностях человека, а экономическая и правовая составляющие коррупции являются лишь внешними индексами явления, формирующими степень дозволенного и недозволенного в определенном сообществе в определенную эпоху [Решетников 2018]. Монография М.М. Решетникова чрезвычайно интересна. Нужно отдать должное ее автору – он одним из первых в отечественной науке привлек внимание читателей к глубинным психологическим факторам коррупционного поведения. И хотя свое исследование М.М. Решетников называет психоаналитическим, мы также обнаруживаем в его работе безусловные параллели с культурно-исторической психологией Л.С. Выготского.
Другой представитель санкт-петербургской психоаналитической школы О.В. Ванновская исследует психологию коррупционного поведения госслужащих с глубинно-психологических позиций [Ванновская 2013]. О.В. Ванновская обосновывает концепты коррупционного давления и коррупциогенной личности. Весьма важно, что ее исследования имеют практический выход: разработана методика антикоррупционной диагностики и проводятся тренинги антикоррупционной устойчивости государственных служащих. Благодаря О.В. Ванновской в научном обороте появилось новое понятие – специалист по психологии коррупции.
Таким образом, на сегодняшний день мы видим два в определенной мере противоположных по отношению друг к другу методологических подхода к проблеме коррупции. Первый подход, который условно можно назвать экономико-правовым, сконцентрирован на изучении внешних по отношению к человеческой личности факторов ее коррупционного поведения. В другом подходе, психоаналитическом, напротив, внимание ученых сфокусировано на глу- бинных вневременных особенностях человеческой личности, порождающих коррупционное поведение.
Социология, особенно в ее феноменологических интерпретациях, как нам кажется, располагает весьма существенным потенциалом формирования методологически интегрированной платформы для исследования проблем коррупции. Кросс-методологические возможности социологии становятся актуальными на фоне общей полипарадигмальной ориентированности современной социальной науки [Савченко 2018]. Но современные социологи [Шедий 2015] видят в коррупции в первую очередь внешние социально обусловленные основания, подобно тому, как Эмиль Дюркгейм в свое время объяснял самоубийство исключительно социальными, а не личностными причинами. Как известно, в свое время Дюркгейм, помимо прочего, установил, что среди иудеев, чьи сообщества отличаются сплоченностью и взаимопомощью, случаи самоубийства гораздо более редки, нежели в индивидуалистической среде протестантов. Но Дюркгейм не пояснил, почему случаи самоубийств все же встречаются и у иудеев и почему далеко не все протестанты склонны к самоубийству. Так и современные социологи не могут разъяснить, почему при прочих равных социальных внешних предпосылках к коррупционному поведению одни люди становятся коррупционерами, а другие – нет. И почему при видимом отсутствии внешних предпосылок к коррупционной активности одни индивиды оказываются склонными к коррупции, а иные – нет?
Ряд представителей политической социологии вслед за Г. Алмондом и С. Вербой находят истоки коррупции в определенном типе политической культуры, обычно именуемом патриархальным [Алмонд, Верба 2014: 61]. Данный тип политической культуры ориентирован на ценности локального характера (ценности общины, клана, рода) и имеет такие проявления, как семейственность, блат, покровительство. В таком типе политической культуры «благодарность», оказанная должностному лицу или, скажем, врачу, является нормой и укладывается в правила общественной морали. Эта форма политической культуры, по мнению Г. Алмонда и С. Вербы, свойственна молодым государствам, недавно обретшим независимость, для которых характерны наслоение местных субкультур, жизнь не по закону, а по традиции, что нередко трансформируется в жизнь «по понятиям». В социально-антропологическом подходе к проблеме коррупции также отчетливо виден принципиальный ориентир на поиск причин коррупции в социокультурных особенностях различных сообществ. Например, авторы исследования «Борьба с ветряными мельницами? Социально-антропологический подход к исследованию коррупции» заявляют, что им удалось выйти за рамки «доминирующего в сегодняшних исследованиях коррупции идеологизированного дискурса» и называют свои наработки в этой области «нетривиальными» и «парадоксальными» [Борьба с ветряными мельницами… 2007]. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что книга как раз пропитана идеологией: коррупция здесь представлена как феномен исключительно не-западных обществ. В сборнике мы находим тексты о коррупции в африканских странах и статьи о коррупции в постсоветских сообществах. В итоге «парадоксальность и нетривиальность» выводов сводится к тому, что коррупция в не-западных обществах существует потому, что они не-западные, о причинах же и, собственно, о существовании коррупции (причем более изощренной) в странах Запада авторы книги не пишут.
Таким образом, в современной социальной науке по разным причинам широкие возможности создания междисциплинарного поля для исследования коррупции используются далеко не в полной мере.
В складывающихся обстоятельствах наиболее перспективно выглядят иссле- дования, соединяющие в себе юридическую психологию и криминологию, если понимать криминологию правильно – как социологию преступности [Комлев 2017].
Например, Ю.М. Антонян выделяет целый комплекс причин коррупционной преступности, не ранжируя их по значимости. Среди этих причин – экономические, политические и организационные, социально-психологические [Антонян 2004: 276-278]. И именно в комплексе все эти причины делают коррупцию массовым явлением, проникающим во все сферы общественной жизни.
Нижегородская школа исследования коррупции также ориентирована на комбинацию знаний и приемов юридической науки, криминологии и юридической психологии [Савченко, Снегирева 2017]. Исследователи выявляют ведущие и дополнительные факторы коррупционного поведения, среди которых факторы макро- и макросоциального характера, во многом сводящиеся к экономико-правовым позициям; социальные и социально-педагогические факторы (корпоративная деформация, особенности воспитания и «жизненной ситуации») и, наконец, собственно психологические факторы: специфические личностные качества и глубинные комплексы, стимулирующие действие компенсаторных механизмов [Савченко, Снегирева, Устинкин 2016].
Появление новых исследований, создающих кросс-методологическое поле исследования коррупции, дает надежду на продуктивный научный поиск. В сложившихся условиях, когда одна и та же проблема исследуется на двух «научных островах», весьма резонно ратовать за то, чтобы наладить научные коммуникации между этими «островами». В конце концов, у всех ученых, изучающих обсуждаемую проблему, одна цель – эффективное предупреждение коррупции.
Список литературы Причины коррупции в кросс-методологическом измерении
- Алмонд Г., Верба С. 2014. Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах. М.: Мысль. 500 с
- Антонян Ю.М. 2004. Криминология: избранные лекции. М.: Логос. 448 с
- Архипов Д.Н., Ребров А.А., Ханахмедов А.С. 2016. Актуальные вопросы обеспечения экономической безопасности топливно-энергетического комплекса России на современном этапе. -Юристъ-Правоведъ. № 3(76). С. 86-92
- Борьба с ветряными мельницами? Социально-антропологический подход к исследованию коррупции (под ред. И. Олимпиевой, О. Панченкова). 2007. СПб: Алетейя. 311 с
- Ванновская О.В. 2013. Психология коррупционного поведения госслужащих: монография. СПб: Книжный дом. 261 с
- Ватель А.Ю. 2012. Административно-правовое регулирование этики и служебного поведения государственных служащих в механизме противодействия коррупции -Полицейская деятельность. № 1. C. 9-13
- Комлев Ю.Ю. 2017. Криминология как социология преступности. -Вестник экономики, права и социологии. № 2. С. 67-73
- Лагов Ю.В., Ковалев С.Н. 2006 Теневая экономика. М.: Норма. 336 с
- Решетников М.М. 2018. Психология коррупции. Утопия и антиутопия: монография. 2-е изд. М.: Юрайт. 101 с
- Савченко И.А. 2018. Дихотомия социокультурных практик и полипарадигмальность социальной науки. -Власть. Т. 26. № 1. C. 146-149
- Савченко И.А., Снегирева Л.А. 2017. Коррупционная направленность личности в эмпирическом измерении. -Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. № 1(37). С. 78-83
- Савченко И.А., Снегирева Л.А., Устинкин С.В. 2016. Факторы формирования коррупциогенной личности: иерархия и экспертные оценки. -Власть. № 12. С. 177-182
- Треушников И.А. 2017. «Коррупционная среда» и российская государственность на современном этапе -Вестник Нижегородской правовой академии. № 13(13). С. 11-12
- Шедий М.В. 2015. Коррупция как социальное явление: социологический анализ: дис.... д.соц.н. М.: РАНХиГС. 393 с
- Яновский Я.С. 2010. Коррупциогенные факторы в российском законодательстве: деформации нормативно-правового толкования. -Юристъ-Правоведъ. № 4. С. 115-119