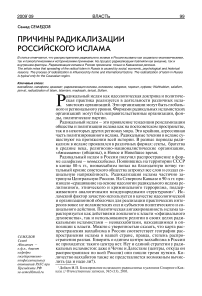Причины радикализации российского ислама
Автор: Cемедов Семед Абакаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 9, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье отмечается, что распространение радикального ислама в России вызвано как социально-экономическими, так и психологическими и историческими причинами. На процесс радикализации повлияли как внешние, так и внутренние факторы. Радикализация ислама в России произошла только в Кавказском регионе.
Ваххабизм, салафизм, джамаат, радикализация ислама, исламизм, медресе, тарикат, суфизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170165046
IDR: 170165046
Текст научной статьи Причины радикализации российского ислама
Р адикальный ислам как идеологическая доктрина и политическая практика реализуется в деятельности различных исламистских организаций. Эти организации могут быть глобального и регионального уровня. Формами радикальных исламистских организаций могут быть неправительственные организации, фонды, политические партии.
Радикальный ислам – это проявление тенденции реисламизации общества и политизации ислама как на постсоветском пространстве, так и в некоторых других регионах мира. Это крайняя, агрессивная часть политизированного ислама. Радикальные течения в исламе существуют на протяжении всей истории. В разные периоды радикализм в исламе проявлялся в различных формах: секты, братства в средние века, религиозно-националистические организации, « джамааты » (общины), в Новое и Новейшее время.
CЕМЕДОВ Семед
Радикальный ислам в России получил распространение в форме салафизма – неоваххабизма . Появившись на территории СССР в конце 80-х гг., неоваххабизм попал на благодатную почву: тотальный кризис советского общества затронул все слои и создал социальную напряжённость. Радикализация ислама частично затронула Центральную Россию. На Северном Кавказе в 90-х гг. произошло «сращивание на основе идеологии радикального ислама религиозного, этнического и криминального терроризма, поддерживаемого аналогичными международными структурами»1. Исламский фактор зачастую используется в качестве идеологической и организационной оболочки для реализации практических интересов вовсе не исламистских сил и субъектов политического и социального действия. Политическая ангажированность ислама характеризуется как действиями лояльного к власти «официального духовенства», так и использованием религии в своих целях радикальными исламистами – неоваххабитами, находящимися в оппозиции к власти. Можно с уверенностью сказать, что карта распространения ваххабизма в России соответствует географии распространения ислама в нашей стране, правда, степень распространения разная. Говорить о едином центре ваххабизма в России не приходится: такого центра нет. Нет и единой стратегии у радикальных исламистов: даже в Чечне и Дагестане (центры, откуда он распространился по всей России) они пошли тремя путями. Количество ваххабитов также не представляется возможным вычис лить (да и надо ли?).
Причины радикализации ислама в России необходимо рассматривать с точки зрения влияния на данный процесс внешних и внутренних факторов. При рассмотрении причин этого процесса в России мы сознательно абстрагируемся от имеющих место отдельных его проявлений вне северокавказского ареала распространения мусульманства. Можно выделить общие и специфические причины радикализации ислама в России.
-
I. Общие причины появления радикального ислама в России.
-
• Стремление ислама регламентировать жизнь общества.
-
• Естественное для любого мусульманского социума выражение недовольства в религиозной форме.
-
• Нестабильная обстановка как в России, так и на Северном Кавказе. «Не следует абсолютизировать воздействие обстановки в регионе на всё российское мусульманство, но следует признать, что борьба тамошних исламистов отдаётся эхом по всей мусульманской России»1.
-
• Слабость государственных структур, особенно правоохранительных органов, «криминализация» власти в целом как следствие попытки стоящих у власти кланов найти общий язык с местными этническими и родовыми авторитетами.
-
• Внешние факторы, ускорившие радикализацию ислама:
– открытие границ и последовавшая свобода передвижений;
– хадж (паломничество в священные города Мекку и Медину);
– возможность обучения в зарубежных мусульманских образовательных центрах;
– возможность получения финансовой помощи от различных правительственных и неправительственных исламских организаций для ведения благотворительной, образовательной, учебной и политической деятельности.
-
II. Специфические причины радикализации ислама на Северном Кавказе:
– крайне высокий «накал страстей» в связи с наличием большого процента молодёжи в общей массе населения (40% моложе 30 лет);
– исторически сложившиеся жёсткие условия жизни, наличие большого количества многодетных семей, традиционная взаимовыр учка, основанная как на родст-
- венных, так и на территориальных и конфессиональных отношениях;
– высокий уровень рождаемости, высокая мобильность населения.
Исламизм проник на Кавказ в период жёсткого обострения межнациональных, межклановых, социальных конфликтов, многие из которых носили синкретический характер. Остриё своей пропаганды салафиты направили на критику «безбожной» местной власти, в чём с ними были согласны многие местные жители. Массовые произвол, коррупция и клановость при формировании властных структур, закрытость власти и «её нечувствительность к нуждам населения стали причинами пополнения рядов радикалов». Последние предлагали альтернативу: всемирный халифат – государство правоверных с истинным «исламским порядком», основанным на шариате (своде правовых норм в исламе). Неоваххабизм апеллировал не к клановости и национальности, а к ценностям равенства и братства, к социальной справедливости. Таким образом, кавказский неоваххабизм формировал для себя социальную базу в регионе, апеллируя к «униженным и обездоленным» (из лексикона аятоллы Хомейни). Салафиты получили поддержку и у части влиятельных кавказских кланов, обделённых властью. Последние пытались использовать финансовый и пропагандистский ресурс радикальных исламистов в своих целях – для захвата власти в республиках.
Чеченский конфликт явился катализатором проникновения радикальных исламистских идей и идеологов на Кавказ, хотя изначально радикальные исламисты обосновались в Дагестане, который являлся идеологическим центром ваххабизма в России. Пример чеченских ваххабитов и обильная финансовая помощь извне активизировали деятельность религиозных радикалов. Чеченские войны породили терроризм, который даже в благополучных странах не поддаётся быстрому «лечению» (пример – деятельность на протяжении нескольких десятков лет террористической баскской организации ЭТА в Испании). «Терроризм способствует, кроме того, укреплению в обществе культа силы, насилия, пренебрежения к правам человека»2. Здесь, конечно, необходимо оговориться, что культ силы являлся на Кавказе во все времена самым почитаемым. Чеченский кризис стал серьёзным вызовом и испытанием для молодой российской демократии. «Неуклюжая» политика центральной власти, неграмотные действия армии, недипломатичная и невежественная тактика регионального руководства привели к подрыву престижа власти как гаранта безопасности граждан. Именно недальновидная политика федерального центра привела к трансформации обыкновенного сепаратизма в национально-освободительное движение, а религия в регионе быстро радикализировалась.
В истории кавказских народов религия неоднократно становилась знаменем как национального, так и социального протеста. В период Кавказской войны XIX в. национально-освободительное движение проходило под лозунгами создания на Кавказе мусульманского государства – имамата . Идеологией движения явился мюридизм – северокавказская вариация суфийского ордена Накшбандийя, привезённого в регион проповедниками из Средней Азии и Ирана в начале XIX в. В то же время шейх Кунта-хаджи Кишиев, распространивший в Чечне суфийский орден Кадирийя (из Передней Азии), выступал за мирное разрешение проблем с метрополией.
В годы Гражданской войны представители обоих тарикатов (орденов) выступили против советской власти (восстания под руководством Узун-хаджи Салтин-ского и имама Н. Гоцинского). В годы советской власти, даже понеся крупные потери (в конце 20-х – 30-х гг. практически все муллы были арестованы, многие из них расстреляны, были закрыты все мечети), суфийские тарикаты продолжали свою деятельность. Многие находящиеся на партийной и государственной работе чиновники продолжали тайно исполнять религиозные обряды. В период чеченского кризиса представители одного и того же та-риката могли оказаться по разные стороны баррикад. В частности, представители тариката Кадирийя встали на сторону Д. Дудаева. Часть из них также поддержали ваххабитское направление в чеченском кризисе.
Необходимо сделать оговорку, что не стоит проводить чёткую грань между представителями суфизма и ваххабизма: религиозный компонент политических и со- циальных процессов на Кавказе сложен, неоднозначен и многолик. Попытка жёстко загнать каждый религиозный феномен в «научную клеточку» обречена на провал: идеальные типы для анализа радикального ислама не подходят. Практически все местные руководители ваххабизма были выходцами из традиционных суфийских братств. Они не теряли связей с представителями своих вирдов (ответвления от орденов).
На современном этапе, в ходе борьбы с чуждой большинству населения идеологией, враждебной местным традициям и особенностям, в состав суфийских общин влилось много новых членов, что способствовало их разрастанию и усилению влияния. После ухода с политической сцены неоваххабитов (точнее, их перехода на нелегальные формы деятельности) суфийское духовенство осталось в качестве единственного представителя и выразителя интересов местных мусульман. Дальнейшая политизация суфизма связана уже не с необходимостью борьбы с иным религиозным и политическим течением, а с кардинальной переориентацией деятельности суфийских сообществ, перенесением приоритетов с духовной практики в политическую сферу.
Применение военной силы против ваххабитов в Дагестане показало остальным сторонникам кардинального исламского переустройства общества, что такая судьба в перспективе ждёт и их, если они будут действовать таким же образом, противопоставляя себя существующей власти. Кроме того, они поняли, что официальное духовенство, связанное с интересами новой дагестанской элиты, не было бы единственной идеологической и политической силой, ему пришлось бы иметь дело с иным направлением ислама, выражающим в крайней форме интересы противоположных социальных слоев. Тарикат-ское духовенство, преследуя, по существу, ту же конечную цель, что и их противники-неоваххабиты, – создание исламского государства, пытается достичь её теперь легальным путём, максимально используя все возможные способы проникновения во власть. При этом оно стремится к усилению своего общественно-политического влияния, к тому чтобы четче обозначить свое присутствие в жизни республики.
Руководители суфийских братств Кади-рийя и Накшбендийя в Чечне более при- ближены к властным структурам, чем в Дагестане. Мобилизационные, интеллектуальные и организационные ресурсы суфийских орденов огромны. Их политизация – уже состоявшийся факт. В нынешней нестабильной социально-политической обстановке на Кавказе, при фактическом отсутствии промышленности это чревато радикализацией тарикатистского ислама.
Хадж. Если в период СССР количество паломников ограничивалось несколькими десятками человек в год, то с начала 90-х гг. их количество увеличилось до 12–15 тыс. чел. в год. Среди паломников 90% составляли выходцы из Северного Кавказа, среди них 70–80% – жители Дагестана. Только в 1998 г. 14 тыс. жителей Дагестана совершили хадж1. С начала перестройки до 2005 г. большая часть пилигримов отправлялась в путь за счёт средств, выделяемых Королевством Саудовская Аравия. Хадж играл мощную транслирующую роль в перенесении идей салафизма (ваххабизма) на территорию России.
Как и на арабском Востоке, радикальный ислам формировал свои «отряды», опираясь на этнические и клановые связи.
Нам кажется, что исследователи не совсем правы, говоря о высоком уровне религиозности в северокавказских республиках – до 95% в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Этот процент значительно ниже, если подходить к проблеме с точки зрения полноты критериев религиозности. В частности, по данным социологического исследования, проведённого в Махачкале в 2000 г. группой учёных под руководством Э. Кисриева, доля опрошенных, признавших свою принадлежность к исламу, составила 82% (в 1997 г. – 95%), соблюдают все предусмотренные исламом обряды 22% респондентов2.
Важную роль в «возрождении» ислама в России играли и играют мечети как центры пропаганды, распространения и популяризации вероучения. Мечеть в России, как и в мусульсанском мире, – это не просто религиозный храм, но и социальный (социально-политический) центр, играющий заметную роль в общественной жизни района, города, где она располо-жена»3. Количество мечетей в России за по- следние 20 лет выросло в десятки раз. В том числе в Татарстане – более 1100, в Башкортостане – 470 , в Чечне – 465, Ингушетии – 300, в Дагестане – более 2000 (в 1989 г. – 27). Мечети играют двойственную роль в политизации и радикализации ислама: с одной стороны, они стали реальной силой, влияющей на политические процессы в России, с другой стороны, неоваххабиты воспользовались ими для утверждения и распространения своей идеологии.
Значительную роль в радикализации ислама сыграли образовательные и издательские центры салафитского (неовахха-битского) толка, созданные при помощи зарубежных исламистских фондов и организаций.