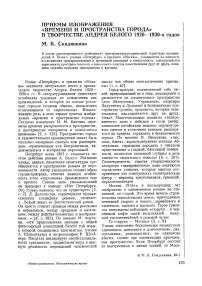Приемы изображения «времени и пространства города» в творчестве Андрея Белого 1920-1930-х годов
Автор: Синдянкина Мария Кирилловна
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Литературоведение. Критика
Статья в выпуске: 1, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности пространственно-временной структуры произведений А. Белого: романа «Петербург» и трилогии «Москва», указывается на важность исследования пространственной и временной категорий в совокупности, подчеркивается зависимость пространственного и временного пластов повествования друг от друга, показаны способы передачи пространства и времени.
Короткий адрес: https://sciup.org/14719601
IDR: 14719601
Текст научной статьи Приемы изображения «времени и пространства города» в творчестве Андрея Белого 1920-1930-х годов
В статье рассматриваются особенности пространственно-временной структуры произведений А. Белого: романа «Петербург» и трилогии «Москва», указывается на важность исследования пространственной и временной категорий в совокупности, подчеркивается зависимость пространственного и временного пластов повествования друг от друга, показаны способы передачи пространства и времени.
Роман «Петербург» и трилогия «Москва» занимают центральное место в прозаическом творчестве Андрея Белого 1920 — 1930-х гг. В литературоведении существует устойчивая традиция их осмысления как произведений, в которых на основе реальных городов созданы образы, значительно отличающиеся от «прототипов». Немаловажную роль в этом играют приемы изображения «времени и пространства города». Согласно концепции М. М. Бахтина «приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство измеряется и осмысляется временем» [2, с. 122] Пространство города в художественном произведении может быть показано намеренно сжатым или расширенным, ограниченным или безграничным, видоизменяться в восприятии персонажей.
Петербург осени 1905 г. становится местом действия романа А. Белого. Реальные улицы, здания, памятники архитектуры преобразуются в пространстве романа до неузнаваемости. Автор умышленно создает образ города-призрака, отмечая важную особенность этого «персонажа» произведения еще в прологе. Сквозь цепь умозаключений он приходит к выводу: «Нет Петербурга. Это только кажется, что он существует» [3, с. 2]. Л. Долгополов, характеризуя художественную специфику романа, отмечает: «...Белый пишет не фантастический роман... Он просто стирает границы между реальным и нереальным, между прошлым и настоящим, между действительностью и воображением...» [4, с. 585]. По мнению М. Амуси-на, «эти представления связаны с общей философской концепцией Белого той поры, в которой соединились кантианство, учение А. Шопенгауэра и антропософия Р. Штайнера. Писатель декларирует несубстанциаль-ность «реального», предметного мира и высшую реальность порождений человеческой мысли как общие онтологические принципы» [1, с. 40].
Город-призрак, подчиняющий себе людей, превращающий их в тени, неоднороден и распадается на ограниченные пространства (дом Аблеуховых, Учреждение, квартиры Лихутиных и Дудкина) и безграничные пространства (улицы, проспекты, которые пересекаются, накладываются друг на друга, Нева). Многочисленные комнаты «лакированного» дома с мебелью в стиле ампир, изящными китайскими вещами, перламутровым цветом и атласными тканями расширяются до предела, отражаясь в бесконечности зеркал. По мнению В. Пискунова, «лак, лоск, блеск», характеризующие жилище Аблеуховых, «призваны породить у читателя представление о гладкой, блестящей поверхности, полностью лишенной глубины и хоть какого-то сакрального смысла» [6, с, 201]. Симметричность, строгая упорядоченность интерьера «лакированного» дома сменяются городскими улицами, которые сенатор воспринимает как совокупность геометрических фигур — пирамид, треугольников, трапеций, параллелепипедов.
Москва 1914-го и последующих лет изображена в одноименном романе не старинной, но старой. Это время начала строительства многоэтажных домов, причудливых сочетаний старого и нового, деревянного и каменного, низкого и высокого. Герои трилогии вынуждены наблюдать «старуху... в черненькой кофте своей желтоглазой... вяжущей тысяченитийный и роковой чулок.
Та старуха — Москва» [3, с. 9].
Улицы заполнены бесконечным множеством «домишков, домченков и домченочков», разноэтажных, разноцветных, но одинаково убогих, словно зря занимающих драгоценное пространство. Если Петербург состоит из выстроенных в линию зданий, то Моск- ва — это прячущиеся друг за другом дома, сломанные заборы. В этом «заставленном* пространстве невозможны быстрые перемещения, героям романа приходится втащиться на ваньке*.
В статье «Улицы, переулки, кривули, дома в романе Андрея Белого „Москва"* Н. А. Кожевникова отмечает особый прием, использованный автором при создании образа города, — сочетание реального и придуманного. А. Белый удостоверяет реальность города, перечисляя московские улицы. Однако здесь же город другой, фантастический. Важно, что центральным в Пространстве романа является именно вымышленный район. «Переулки — олицетворение невнятицы, которая вымощена в самих их названиях, подчеркнуто не похожих на московские: Фелефоков, Гаргалов, Селеньев* [б, с. 97]. '
У Табачихинского переулка, в котором живет семья Коробкиных, по мнению Н. А. Кожевниковой, «2 возможных местонахождения. Это может быть Денежный переулок, где родился и жил Белый, или один из переулков в районе Плющихи* [6, с. 97]. Пространство дома Коробкина разделено на спальню профессора, в которой он пытается укрыться от мух-кусак на диване под одеялом, кабинет такой же «маленький и двуоконный», заполненный до отказа мебелью. Профессор страдает от недостатка пространства («гиппопотамом потыкался* [3, с. 50]), наблюдает в окно своего кабинета Москву, «которая липнет к окошку*. Иное ощущение пространства у других персонажей трилогии. Дом Мондро на Петровке расширяется: предметы гостиной «расставлялись так, что округлые линии их отстояли весьма друг от друга, показывая расстояния и умаляя фигуры — в фигурочки* [1, с. 64].
Следует отметить, что ведущую роль в литературном произведении М. М. Бахтин отводит художественному времени, которое способно сгущаться, уплотняться и, наоборот, замедляться, растягиваться). Сложность исследования данной категории состоит в определении ее «художественной зримости*. Нам удалось выделить следующие приемы передачи «времени города*: 1) точное указание, когда совершается действие и как долго оно длится; 2) изображение перемещений героев в городском пространстве; 3) восприятие времени персонажами романа; 4) передача изменений, происходящих в городской среде; 5) изображение исторического времени города.
Повествование в «Петербурге* начинается с точного указания на время. На часах
Аполлона Аполлоновича «ровно половина десятого*, лора ехать в Учреждение. Путь вбирает в себя расширенный временной пласт. Карета сенатора «пролетела на Невский*, однако фантасмагории в сознании Аполлона Аполлоновича ставят героя вне времени. Возвращаясь из воспоминаний и дум, герой, словно впервые за долгое время, «„.снова выглянул из кареты: то, что он видел теперь, изгладило бывшее: мокрые, скользкие плиты, лихорадочно заблиставшие сентябревским денечком!* [3, с. 22].
По справедливому замечанию О. А. Чер-нейко, показать пространство можно, «описав вещи, предметы, субстанцию. Единственный способ изобразить время — показать движение либо вещей, либо взгляда. Движение взгляда в художественном произведении и выполняет функцию изображения времени» [7, с. 7]. Таким образом, именно перемещения героев создают временной пласт повествования. Неторопливые передвижения затягивают повествование («сядет, бывало, кусака такая на платье, переползая с него очень медленно* [3, с. 19]), стремительные, напротив, ускоряют ход времени (Коробкин перемещается в пространстве города «быстрым расскоком*). Посредством неподвижности героев переданы длительные отрезки времени: «оба молчали: до сумерек» [3, с. 109]; «полчаса мы сидим, а — ни с места* [3, с. 93]. Описание душевного либо физического состояния способно вместить в себя годы жизни персонажей, уплотняя и сжимая время: «Годами страдала она кровоточей из носу, страдала одышкой, вспыхивая в это время до корня волос и кровяность показывая подбородка второго, слегка опушенного реденьким крапом волос...» [3, с. 130]. Уплотнение времени может происходить при повторяющихся событиях и действиях: «Лизаша смеялась: все громче, все громче смеялась; все громче, пока из растерянных глазок не брызнули слезки: она — убежала» [3, с. 106]. Субъективное восприятие героями времени становится способом личностного бытия, характеризуя субъект, определенную личность.
Интересно изображение времени с помощью природных метаморфоз, В городе-призраке даже наступление сумерек иллюзорно: «Немилосердный закат посылал удар за ударом от самого горизонта; выше шла неизмеримость розовой ряби*. Однако «в бирюзе погасят нежнейшие отсветы: хлынет всюду темная синь, сиренево-зеленая глубина: на дома, на горизонты, на воду. И заката не будет!* [3, с. 124]. Петербургские белые ночи, таким образом, «работают* на эфе- мерность времени, призрачность его течения. На ход времени указывает и косвенно изображенная смена периодов суток (солнечные лучи, лунный свет, освещение комнат, фонари на улице): «серые сумерки*, «опускалась ежевечерняя тень*, «зеленовато-бутылочный сумрак» [3, с. 49].
Несомненно значение воспоминаний персонажей (Коробкин живет в Табачихинском переулке 25 лет, 35 лет назад был он еще «без усов, бороды, но — в очках, в сюртуке и жилете* [3, с. 34], Киерко захаживает к профессору биться в шахматы уже 25 лет) и исторических событий (в памяти Коробкина живы годы правления царя-миротворца, события революции 1905 г.).
Таким образом, приемы художественной передачи «времени города» в прозаических произведениях А. Белого включают как прямые (точное указание на время совершения действия, длительность события), так и косвенные (изображение перемещений героев, изменений окружающей среды, истории города). Прием расширения романного пространства использован в «Петербурге». Образ Москвы — это образ города кривых переулков, в которых все сжато до предела. Время в «дряхлой» Москве подчинено процессам торможения в отличие от «Петербурга» , где времени словно не существует ввиду эфемерности и подчеркнутой нереальности жизни персонажей.
Список литературы Приемы изображения «времени и пространства города» в творчестве Андрея Белого 1920-1930-х годов
- Амусин М. Текст города и саморефлсксия текста/М. Амусин//Вопр. лит. -2009. -Ms 1. -С. 34-49.
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе/М. М. Бахтин//Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. -М., 1986. -С. 121-291.
- Белый А. Сочинения: в 2 т./А. Белый. -М.: Худож. лит., 1990. -Т. 2: Проза. -671 с.
- Долгополов Л. Андрей Белый и его «Петербург»: монография/Л. Долгополов. -Л.: Сов. писатель, 1988. -416 с.
- Кожевникова Н. А. Улицы, переулки, кривули, дома в романе Андрея Белого «Москва»/Н. А. Кожевникова//Москва и «Москва» Андрея Белого. -М., 1999. -С. 213 -245.
- Пискунов В. «Второе пространство» романа А. Белого «Петербург»/В. Пискунов//В. Пискунов. Андрей Белый: Проблемы творчества: статьи, воспоминания, публикации. -М., 1988. -С. 193-215.
- Чернейко О. А. Способы представления пространства и времени в художественном тексте/О. А. Чернейко//Филол. науки. -1994. -Мо 2. -С. 58 -70.