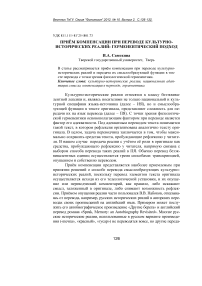Приём компенсации при переводе культурно-исторических реалий: герменевтический подход
Автор: Самохина Ирина Анатольевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и практики исследований
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается приём компенсации при переводе культурно-исторических реалий и передача их смыслообразующей функции в тексте перевода с точки зрения филологической герменевтики.
Культурно-исторические реалии, национальная адаптация смысла, компенсация в переводе, герменевтика
Короткий адрес: https://sciup.org/146120955
IDR: 146120955 | УДК: 811.111+81’25+801.73
Текст научной статьи Приём компенсации при переводе культурно-исторических реалий: герменевтический подход
Культурно-исторические реалии относятся к классу безэквива-лентной лексики и, являясь носителями не только национальной и культурной специфики языка-источника (далее – ИЯ), но и смыслообразующей функции в тексте оригинала, представляют сложность для передачи их на язык перевода (далее – ПЯ). С точки зрения филологической герменевтики основополагающим фактором при переводе является фактор его адекватности. Под адекватным переводом текста понимается такой текст, в котором рефлексия организована аналогично тексту оригинала. В целом, задача переводчика заключается в том, чтобы максимально сохранить средства текста, пробуждающие рефлексию у читателя. В нашем случае передача реалии с учётом её роли в оригинале как средства, пробуждающего рефлексию у читателя, напрямую связана с выбором способа перевода таких реалий в ПЯ. Обычно перевод безэк-вивалентных единиц осуществляется тремя способами: транскрипцией, опущением и собственно переводом.
Приём компенсации представляется наиболее приемлемым при принятии решений о способе перевода смыслообразующих культурноисторических реалий, поскольку перевод элементов текста оригинала осуществляется исходя из его телеологической установки, и их опущение или переводческий комментарий, как правило, либо искажают смысл, заложенный в оригинале, либо снимают возможность рефлексии. Приёмом опущения реалии часто пользовался В.В. Набоков, отказываясь от перевода, например, русских исторических реалий в авторских переводах своих произведений на английский язык. Примером может послужить его автобиографическое произведение «Другие берега» и английский перевод романа «Speak, Memory: an Autobiography Revisited». Многие русские исторические реалии, использованные в русском варианте произведения («печка», «красный», «гусар») не переводятся вовсе, но другие переда- ются без перевода, транслитерацией («барин» – «barin»), а третьи заменяются более нейтральными словами («ванька» – «izvozchik») [6; 13]
Компенсация – это переводческий приём, при использовании которого смыслы художественного текста, опредмеченные в его средствах, утрачиваемых при переводе за неимением их эквивалентов в ПЯ, передаются другими смыслообразующими средствами, причём как средствами того же уровня, так и средствами других уровней. Компенсировать смыслы можно и в местах, отличающихся от оригинала художественного текста.
Существует несколько различных классификаций компенсаций. И.А. Алексеева различает компенсацию одноуровневую позиционную и многоуровневую качественную [1, c. 168], Л.В. Бреева и А.А. Бутенко вводят понятия контактной (в том же месте текста) и дистантной (в других местах текста) компенсации [3]. В дополнение к этому М.А. Яковлева предлагает различать компенсацию горизонтальную (средствами одного уровня) и вертикальную (средствами другого уровня) [11, c. 48]. Интересен подход Н.А. Фененко и А.А. Кретова, разделивших все реалии на три типа (L-реалии, т.е. реалии-слова или реалии-фразеологизмы; R-реалии, т.е. собственно денотаты, объекты реального мира; С-реалии – культурные концепты) [9, c. 62], что определяет способ их передачи на язык принимающей культуры. В случае с L-реалиями переводчики, как правило, компенсируют отсутствие лексических единиц прямым заимствованием с передачей их механическими средствами, т.е. транскрипцией. Плюс такой компенсации – обогащение ПЯ новыми лексическими единицами. При передаче С-реалий используется пояснение в тексте перевода, по словам авторов, утяжеляющее стиль, но компенсирующее «семантическую недостаточность» ПЯ, а R-реалии, как правило, передаются с помощью частичной компенсации, направленной на поиск максимально близкого к культуре ИЯ денотата в культуре ПЯ или с помощью гипо- и гиперонимических замен. Компенсация, например, диалектной окраски речи может быть передана с использованием межуровневой компенсации (средствами других уровней), с помощью социально окрашенной лексики, или за счёт внутриуровневых средств другого порядка (например, архаизмов) [9].
С точки зрения филологической герменевтики компенсации могут быть классифицированы следующим образом: национальная адаптация смысла, компенсация горизонтальная и вертикальная (вслед за М.А. Алексеевой), компенсация дистантная и контактная (вслед за Л.В. Бреевой и А.А. Бутенко).
Исследователи по-разному называют приём национальной адаптации смысла: «приём замены концептуальным аналогом» [2, с. 18], «частичной (условной) компенсацией» [8, c. 91], «нарушением референции» [10, c. 169] и т.п.
Некоторые исследователи утверждают, что нарушение референции (национальная адаптация смысла) недопустимо, что «переводчик не должен позволять себе менять референции повествовательного текста…» [10, c. 169], однако оговаривают случаи, когда такое нарушение необходимо. Это случаи, когда текст перевода обязательно должен передавать «стилистическую интенцию оригинального текста» [10, c. 170] или его «глубинный смысл» [10, c. 180]. Под национальной адаптацией смысла, опредмеченного в смыслообразующих средствах, в частности культурно-исторических реалиях, мы понимаем замену реалии ИЯ реалией ПЯ, максимально приближенной по своему значению и функции в тексте перевода к реалии ИЯ. В качестве примера рассмотрим дробь текста из главы пятой первой части романа В.В. Набокова «Лолита», сопоставив английский оригинал, русский авторский перевод и авторизованный немецкий перевод.
Размышляя по поводу нимфеток, Гумберт приводит большое количество примеров из мировой литературы на тему того, что ещё с древнейших времен известно, что такое «нимфетка», и многие знаменитые люди страдали от той же «психологической травмы». В качестве одного из смыслообразующих средств автор вводит реалию – название американской популярной игры tiddlywinks :
«I am just winking happy thoughts into a little tiddle cup... My cup brims with tiddles» [14, c. 20].
Автор использует метафорическое сравнение его «счастливых мыслей» с разноцветными пластиковыми кружками из игры. В России есть подобная игра – игра «в блошки». В.В. Набоков делает выбор в пользу передачи этой метафоры на русский язык посредством почти дословного перевода, максимально адаптируя смысл:
«... я просто пускаю выщелком разноцветные блошки счастливых мыслей в соответствующую чашечку... Моя чашечка полным полна блошек» [7, c. 27].
Что касается немецкого авторизованного перевода, выполненного Хелен Хессель, то он довольно противоречив. С одной стороны, в первой части немецкого варианта этой дроби текста переводчик сильно ослабляет смыслообразующую функцию метафоры, оставив от неё лишь глагол «schnippen». С другой стороны, вторая часть метафоры, завершающая, полностью дословно отсылает читателя к игре «в блошки»:
«…Ich schnipse nur glückliche Gedanken ins Becherchen…Mein Becherchen ist bis zum Rand voll mit Spielflöhen» [12, c. 31].
В качестве примера горизонтальной и вертикальной компенсации предлагается рассмотреть дробь текста из автобиографического произведения В.В. Набокова «Другие берега», английского авторского перевода
«Speak, Memory: an Autobiography Revisited» и неавторизованного перевода «Память, говори: К вопросу об автобиографии», выполненного С. Ильиным.
Оригинал : «Бэрнес был крупного сложения, светлоглазый шотландец с прямыми жёлтыми волосами и с лицом цвета сырой ветчины. По утрам он преподавал в какой-то школе, а на остальное время набирал больше частных уроков, чем день мог вместить. При переезде с одного конца города в другой, он всецело зависел от несчастных, шлёпающих рысцой ванек, и хорошо если попадал на первый урок с опозданием в четверть часа, а на второй опаздывал вдвое; к четырёхчасовому он добирался уже около половины шестого» [6, c. 27].
Английский авторский перевод : «Mr. Burness was a large Scotsman with a florid face, light-blue eyes and lank, straw-colored hair. He spent his mornings teaching at a language school and then crammed into the afternoon more private lessons than the day could well hold. Traveling, as he did, from one part of the town to another and having to depend on the torpid trot of dejected izvozchik (cab) horses to get him to his pupils, he would be, with luck, only a quarter of an hour late for his two o’clock lesson (wherever it was), but would arrive after five for his four o’clock one» [13, c. 76].
Русский неавторизованный перевод : «Мистер Бэрнес был крупного сложения, светлоглазый шотландец с прямыми соломенными волосами и красным лицом. По утрам он преподавал в языковой школе, а на остальное время набирал больше частных уроков, чем день мог вместить. При переезде с одного конца города на другой он всецело зависел от шлёпающих шаткой рысцой извозщичьих кляч, доставлявших его к ученикам, и хорошо если попадал на двухчасовой урок (куда бы ради него ни приходилось тащиться) с опозданием в четверть часа, а к четырёхчасовому добирался уже в шестом часу» [5].
При интерпретации оригинала был выявлен метасмысл ‘бессмысленная суетность бытия’, одним из средств выхода на который является метонимия «ванька», а точнее, словосочетание «несчастные ваньки». Историзм «ванька» – пренебрежительное название извозчика с плохой лошадью - клячей и бедной упряжью, как правило, приехавшего из деревни на зиму подработать извозом в большом городе. Его жизнь беспросветна и бессмысленна, как и жизнь этого вечно опаздывающего, предпринимающего тщетные усилия для достижения какой-то мелкой цели, неустроенного и неприкаянного, равнодушного к своей работе человека.
В английском варианте В. Набоков заменяет реалию «ванька» словосочетанием, содержащим транслитерированный и выделенный курсивом историзм «извозчик» – «izvozchik horses», давая пояснительный комментарий в скобках – (cab). При интерпретации было выявлено, что метасмысл, опредмеченный в русском варианте текста, практически сохранён. Однако смыслообразующая метонимия исчезла, и вместо неё автор использует дру- гой приём – полифонию, дополняя её авторским комментарием по тексту. Первое, что выучивают в чужой стране – это язык «выживания», т.е. самые примитивные и общеупотребительные слова и словосочетания, которые сопровождают действия человека для того, чтобы обеспечить его повседневные нужды: сходить в магазин, куда-то добраться и т.п. В данном случае выделенный авторским курсивом нейтральный историзм «izvozchik» – это слово из словаря шотландца Бэрнеса, а авторское пояснение «cab» предлагается уже для читателя. Кроме этого, налицо попытка автора «остранить» перевод и дать возможность англоязычному читателю приблизиться к русскому быту начала ХХ века. Способствует пониманию смысла и словосочетание «dejected horses» с точки зрения своего лексического значения. В русском языке слово «лошадь» связано обычно с тяжёлым трудом – «работать как лошадь», «ломовая лошадь», «загнанная лошадь», «весь в мыле» (как лошадь). И Бэрнес, и «ваньки» действительно работают много и тяжело, чтобы свести концы с концами. Замена метонимии «ванька» более нейтральным словосочетанием, тем не менее, несколько ослабляет возможность читателя рефлексировать, так как именно «ванька» предполагает наличие у извозчика не просто лошади, а именно клячи. Как вариант, можно было бы предложить компенсировать смыслообразующую функцию данной реалии в тексте перевода английским архаизмом «hack», подразумевающим наёмный экипаж и имеющим одним из значений «кляча».
После набоковского перевода этого произведения на английский язык была предпринята ещё одна попытка его перевода на русский С. Ильиным. При интерпретации была выявлена тенденция переводчика сохранить по возможности все средства, используемые автором в английском варианте произведения, включая аллитерацию (« t orpi d t ro t of d e-jec t e d …horses»), которую переводчик даже несколько усилил: «… ш лёпаю щ их ш аткой рыс ц ой извоз щ и ч ьих кля ч …», «…та щ иться…». В русском оригинале эта аллитерация выражена гораздо меньшим количеством выделенных звуков: «…в с е ц ело зави с ел от не сч а с тны х , ш лёпаю щ и х ры сц ой…», чем в этом варианте перевода.
В качестве лексических средств переводчик использовал слова «кляча» и «тащиться», что также помогает читателю выйти на метасмысл ‘бессмысленная суетность бытия’. С другой стороны, «ванька» и «izvozchik (cab) horses» были заменены переводным словосочетанием «извозщичьи клячи», что передает смысл, опредмеченный в этой дроби текста, но, по сравнению с оригинальным текстом, ослабляет возможность рефлексии, поскольку является более эксплицированным, как и в английском переводе. Тем не менее, в данном случае мы можем говорить об удачной попытке переводчика компенсировать потерю смыслообразующего лексического средства, поскольку использованные им средства способствуют пробуждению рефлексии у читателя.
Таким образом, приём компенсации является наиболее приемлемым при передаче культурно-исторических реалий на язык принимающей культуры, в силу того что эти лексические единицы относятся к классу безэквивалентной лексики и сохранение смыслообразующей функции таких элементов текста не всегда возможно при использовании обычных способов передачи: транскрипции, перевода и опущения.
Загл. с экрана.