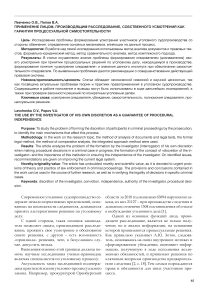Применение лицом, производящим расследование, собственного усмотрения как гарантия процессуальной самостоятельности
Автор: Левченко Ольга Владимировна, Попов Вадим Андреевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 3 (40), 2019 года.
Бесплатный доступ
Цель: Исследование проблемы формирования усмотрения участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, определение основных механизмов, влияющих на данный процесс. Методология: В работе над темой исследования использованы метод анализа документов и правовых текстов, формально-юридический метод, метод сравнительного анализа, метод комплексного подхода. Результаты: В статье осуществлен анализ проблемы формирования следователем (дознавателем) своего усмотрения при принятии процессуальных решений по уголовному делу, находящемуся в производстве, формирования понятия «усмотрение следователя» и значения данного института при обеспечении самостоятельности следователя. По выявленным проблемам даются рекомендации о совершенствовании действующей правовой системы. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает несомненной новизной и научной ценностью, так как посвящена актуальным проблемам теории и практики правоприменения в уголовном судопроизводстве. Содержащиеся в работе положения и выводы могут быть использованы в ходе дальнейших исследований, а также при проверке законности решений по конкретным уголовным делам.
Усмотрение следователя, убеждение, самостоятельность, полномочия следователя, процессуальное решение
Короткий адрес: https://sciup.org/140244637
IDR: 140244637
Текст научной статьи Применение лицом, производящим расследование, собственного усмотрения как гарантия процессуальной самостоятельности
Современное уголовное судопроизводство содержит немало нормативных предписаний, основанных на возможности следователя, дознавателя принять альтернативное решение по уголовному делу.
С одной стороны, такая позиция законодателя позволяет лицам, производящим расследование, проявить свое усмотрение в обоснование своего решения, с другой – есть возможность «произвола» решения, чего, в безусловном случае, допустить нельзя.
Выявлению именно этой границы должны помочь научные исследования ученых-правоведов, включая специалистов по уголовному процессу.
Актуальность таких исследований подтверждена практикой жизни уголовно-процессуального закона. Например, прокуратурой Оренбургской области за 2018 год выявлено 63894 нарушения закона, из них 21127 – при производстве следствия и дознания; отменено 1504 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела [1].
Одной из основных функций лица, проводящего расследование, является не только получение, но и анализ информации, на основании которой принимаются процессуальные решения. Как правильно указывает А.Ю. Зотов, следователь, основываясь на своих внутренних мотивах и сформированном убеждении, оценивает информацию, полученную в ходе исполнения возложенных обязанностей, и принимает решения по ключевым вопросам производства предварительного следствия [2, с. 18]. Тем самым порождаются права и обязанности для иных участников процесса.
По результатам анализа следователь обязан принять процессуальное решение, если уголовно-процессуальный закон не содержит четкой обязанности должностного лица поступить так, а не иначе. Статья 217 УПК РФ указывает, что следователь «предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела», то есть следователь принимает процессуальное решение на основании своего усмотрения.
Исходя из юридической техники составления УПК РФ, можно выделить дискреционные полномочия двух видов: 1) прямое усмотрение и 2) косвенное усмотрение.
Под прямым усмотрением понимаются случаи, когда нормативный акт в своем тексте прямо закрепляет дискреционные полномочия следователя по выбору возможностей поведения из альтернатив. В качестве иллюстрации можно привести ч. 1 ст. 97 УПК РФ, которая прямо предусматривает право следователя избрать одну из мер пресечения, предусмотренных процессуальным законом. При этом следователю предоставляется как право избрать конкретную меру пресечения [3, с. 30], так и возможность принятия решения по вопросу: избирать меру пресечения вообще или нет.
Косвенным усмотрением называются такие ситуации следственной практики, когда следователь имеет возможность «усмотреть» наличие требуемого законом основания для совершения того или иного процессуального действия в ходе оценки фактических обстоятельств дела. В данном случае можно говорить о фактически предоставленном праве «переоценить» или «недооценить» конкретные обстоятельства дела, на основании которых будут приниматься решения. Как правило, в данном случае законом основание возникновения полномочий указывается оценочными понятиями, что и дает возможность правоприменителю поступать по своему усмотрению в рамках дискреционных полномочий.
Различие между прямым и косвенным усмотрением может быть проведено по тому основанию, что при прямом усмотрении закон прямо и недвусмысленно представляет полномочия следователю для разрешения вопроса по своему внутреннему убеждению: например, применение ст. 28 УПК РФ для прекращения (или непрекра-щения) уголовного дела в отношении лица в связи с деятельным раскаяньем последнего.
Использование возможности косвенного усмотрения, возникновение дискреционного полномочия у правоприменителя обусловлено сущест- вованием определенного обстоятельства. При этом само это обстоятельство описывается в основном с использованием оценочных понятий и терминов («необходимость», «исключительный случай» и т. д.). Именно интерпретация и применение следователем оценочных понятий, используемых законодателем, и называются большинством ученых наиболее часто используемой формой усмотрения [4, с. 88]. Например, в ст. 108 УПК РФ указано, что мера пресечения в виде заключения под стражу применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. Однако в этой же норме указано, что «в исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет». Обстоятельства данной «исключительности» с учетом требований закона и оцениваются следователем по своему внутреннему убеждению в порядке ч. 1 ст. 17 УПК РФ.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что основным признаком усмотрения является наличие возможности выбора правоприменителем модели поведения из двух и более вариантов, которые, однако, прямо предусмотрены законом. При этом альтернатива может быть выражена не только в виде различных решений возникающего вопроса, но и в виде вариантов оценки конкретных обстоятельств дела, фактически ограниченной только общими положениями законодательства.
Следователь, используя имеющиеся у него полномочия, совершает аналитическую, субъективно обусловленную работу по анализу и оценке доказательств, применяя их к конкретной следственной ситуации и тем самым определяя возможность их использования в качестве основания для применения тех или иных имеющихся у него полномочий. При этом основания образуются системой как юридических, так и фактических элементов, каждый из которых может являться ключевым. Основания возникновения полномочий далеко не всегда определены абсолютно определенными нормами действующего законодательства, что позволяет согласиться с мнением большинства ученых, исследовавших данный вопрос [5], согласно которому основной существенный признак усмотрения – наличие обусловленного законом выбора принимаемого решения между равно соответствующими закону альтернативами.
Исходя из изложенного, усмотрение не может быть неверным, поскольку оно возможно исключительно в рамках полномочий следователя и реализуется в рамках предоставленных последнему полномочий. В связи с этим действия следователя при использовании дискреционных полномочий могут являться неэффективными для решения возникающей следственной ситуации, но неверными они являться не могу.
Приведенные выше доводы позволяют сделать вывод об основной проблеме взаимоотношений оценочных понятий, их толкования и усмотрения при принятии решений. Алгоритм определения порядка взаимодействия указанных явлений должен быть, по нашему мнению, следующий: на основании внутреннего убеждения и проведенного в соответствии с ним толкования обстоятельств дела следователь определяет круг суждений, которые необходимо подвергнуть оценке. Далее в соответствии с имеющимися у него дискреционными полномочиями следователь комбинирует установленные факты и получившуюся совокупность оценивает на предмет установления последовательности совершенных действий, приоритета и причинно-следственной связи между элементами, их значения для правильной квалификации действий лица и, как следствие, принимает соответствующее решение.
Например, при установлении статуса подозреваемого или обвиняемого и разрешении вопроса об избрании меры пресечения в отношении указанного субъекта следователь на основании собственного толкования определяет круг фактов, которые влияют на вывод о наличии достаточных оснований, дающих право воспользоваться ст. 99 и 100 УПК РФ и избрать в отношении подозреваемого (обвиняемого) одну из мер пресечения, предусмотренных ст. 98 УПК РФ. Затем на основании собственного усмотрения следователь решает [6, с. 151], являются ли данные обстоятельства с учетом иных обстоятельств подлежащими обязательному учету в соответствии со ст. 99 УПК РФ и достаточными для принятия законного и обоснованного решения. При этом принимаемые следователем решения должны формироваться им самостоятельно, без какого-либо внешнего вмешательства, поскольку ограничение самостоятельности в профессиональной деятельности значительно снижает инициативу, активность, а также творческую составляющую в работе следователя, что влечет недостаточно ответственное отношение к результатам расследования.
При этом при определении сущности усмотрения очень часто происходит смешение понятий «усмотрение» и «убеждение». Юридическая конструкция указанных понятий сформулирована так, что они получаются близки до такой степени, что в некоторых нормах синонимичны и взаимозаменяемы без утери вкладываемого в них нормативным документом смысла. Так, в ст. 17 уголовно-процессуального закона говорится о том, что доказательства надлежит оценивать по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.
Однако, несмотря на указанную степень сходства, разница в указанных понятиях все равно имеется: граница между понятиями проходит по оценке фактических материалов дела. Так, А.А. Огилец указывает, что «внутреннее убеждение лежит в основе усмотрения» [7, с. 154]. Данное понятие представляется верным, так же как и утверждение о том, что внутреннее убеждение субъекта лежит в основе любого принимаемого им волевого решения, в том числе и усмотрение следователя в рамках предоставленных полномочий, или толкования обстоятельств, определяющих основания возникновения полномочий должностного лица.
И усмотрение, и убеждение формируются у следователя под влиянием общего для них источника – правосознания. В этом контексте можно сделать вывод о том, что убеждение – субъективное отношение следователя к наличию (отсутствию) юридически значимых обстоятельств, а усмотрение – волеизъявление следователя, выражающееся через принятие решения в рамках имеющихся полномочий.
Внутреннее убеждение и правильность его формирования оценивается как обоснованное и допустимое на основании имеющихся в материалах дела сведений. При этом внутреннее убеждение не может быть неверно, более того, действующее законодательство не содержит какой-либо ответственности правоприменителя за то, что у последнего сложилось неверное внутреннее убеждение, что определяет убеждение именно как процедуру субъективную, схожую с усмотрением. Однако при этом законодатель допускает признание данного усмотрения неверным и его отмену вышестоящим руководителем, прокурором или судом, в том числе при обжаловании судебных решений. Так, в порядке п. 2 ч. 1 ст. 389.16 УПК РФ неучитывание судом обстоятельств, могущих повлиять на выводы суда, является основанием для отмены приговора. При этом на стадии предварительного следствия подобной нормы нет, поскольку законодатель в силу процессуального положения следователя в большинстве случаев не указывает обстоятельства, которые должны учитываться при использовании предоставленных дискреционных полномочий.
Убеждение в психологии – чувство уверенности в правильности сделанных лицом выводов; в теории познания убеждение – соответствие внутреннего убеждения лица объективной действительности. В идеале они должны совпасть друг с другом.
Усмотрение – это выбор из предоставленных законом вариантов. То есть в ходе усмотрения выбор происходит из верных вариантов, и в процессе установления фактических обстоятельств нескольких верных вариантов данных фактических обстоятельств быть не может, этот исходит из философского понимания истины как категории единичной.
Таким образом, основным критерием отличия усмотрения от внутреннего убеждения следователя является то, что при усмотрении перед следователем стоит задача выбора правильного варианта действия с точки зрения процессуальной эффективности, а при внутреннем убеждении – задача поиска и выбора правильного варианта поведения с точки зрения достоверности.
При этом, затрагивая такой вопрос, как эффективность (принцип процессуальной экономии) [8, с. 597], необходимо отметить, что его выполнение проистекает из положений ст. 6.1 УПК РФ и тесно связано с понятием целесообразности в уголовном процессе. Более того, существуют научные работы, в которых именно через понятие целесообразности дается определение усмотрению, например: усмотрение – волевая сторона соотношения целесообразности и законности [9, с. 92].
В соответствии с понятием целесообразности при применении конкретных норм права уполномоченное лицо в каждом случае должно принять наиболее целесообразное решение из всех допустимых вариантов, соответствующих закону. Исходя из этого, можно утверждать, что усмотрение – способ разрешения конкретной процессуальной ситуации, а целесообразность – мотив, руководствуясь которым, следователь разрешает указанную ситуацию.
Все это позволяет утверждать, что невозможно сравнить целесообразность и усмотрение, поскольку это несопоставимые понятия; целесообразность должна быть присуща любому ре- шению, принимаемому следователем, в том числе в рамках дискреционных полномочий.
Принятый на основании усмотрения правоприменительный акт априори преследует ту цель, ради которой следователь наделен полномочиями участника уголовного судопроизводства, в противном случае решение не может считаться законным [10]. В связи с этим, как нами уже указывалось, целесообразность есть признак усмотрения и его составная часть.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что усмотрение как институт уголовного процесса является понятием сложным и в ходе применения не может рассматриваться в отрыве как от конкретных обстоятельств дела, так и от принципов уголовного процесса и задач стороны обвинения.
Список литературы Применение лицом, производящим расследование, собственного усмотрения как гарантия процессуальной самостоятельности
- Официальный сайт прокуратуры Оренбургской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.orenprok.ru/right-menu/statistika/pnd.
- Зотов А.Ю. Процессуальная самостоятельность следователя: реальность или теоретическая конструкция? // Уголовное судопроизводство. 2018. № 4.
- Кунашев М.А. Проблемы соотношения понятия усмотрения следователя со смежными понятиями: «убеждение», «оценочные термины», «целесообразность» // Российский следователь. 2018. № 4.
- Фастов А.Г., Бойко Д.В. Законность и усмотрение в правоприменительной деятельности: вопросы теории. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2012.
- Марфицин П.Г. Усмотрение следователя: уголовно-процессуальный аспект: дис.. д-ра юрид. наук. Омск, 2003.
- Бобров А.В. Активность следователя как неотъемлемый элемент его процессуальной самостоятельности // Юридический аналитический журнал. 2006. № 2.
- Огилец А.А. Процессуальные, тактические и психологические аспекты усмотрения следователя: дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 2005.
- Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев; рук. авт. кол. В.А. Давыдов. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2017.
- Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М.: Юридическая литература, 1972.
- Ярославский А.Б. Усмотрение следователя при расследовании уголовных дел: дис.. канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 57.