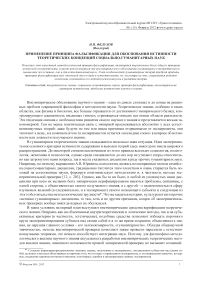Применение принципа фальсификации для обоснования истинности теоретических концепций социально-гуманитарных наук
Автор: Федулов Игорь Николаевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (15), 2012 года.
Бесплатный доступ
Показано, что известный методологический принцип фальсификации, являющийся выражением более общего принципа логической когерентности, может использоваться для внеэмпирического обоснования гуманитарного теоретического знания так же успешно, как и для естественнонаучного. Учет особенностей гуманитарных теорий требует придать принципу фальсификации вид, отличный от его вида в естествознании, но, несмотря на это, сохраняется родство логических оснований и его методологическая роль в развитии теории
Теоретическое знание, социально-гуманитарные науки, принцип фальсификации, внеэмпирические критерии истинности, проблема истинности научного знания
Короткий адрес: https://sciup.org/14821703
IDR: 14821703
Текст научной статьи Применение принципа фальсификации для обоснования истинности теоретических концепций социально-гуманитарных наук
Внеэмпирическое обоснование научного знания – одна из самых сложных и до конца не решенных проблем современной философии и методологии науки. Теоретическое знание, особенно в таких областях, как физика и биология, все больше отрывается от достижимого эмпирического базиса, контролирующего адекватность вводимых гипотез, стремящихся описать все новые области реальности. Эта тенденция связана с особенностями развития самого научного знания и представляется весьма закономерной. Тем не менее генетическая связь с эмпирией прослеживается абсолютно у всех естественнонаучных теорий: даже будучи по тем или иным причинам оторванными от эксперимента, они тяготеют к нему, и в конечном итоге за экспериментом остается «последнее слово» в вопросе об истинности или ложности получаемого знания.
В гуманитарном теоретическом знании складывается несколько иная ситуация. Идея эксперимента как основного критерия истинности содержания и выводов теорий здесь никогда не имела широкого распространения. До некоторой степени исключением из этого правила выглядят социология, политология, экономика и психология, однако среди специалистов до сих пор не утихают споры относительно как затронутого нами вопроса, так и места указанных дисциплин в ряду прочих гуманитарных наук. Например, по меткому выражению А.В. Юревича, психология, являясь полноправным членом семейства социогуманитарных дисциплин, традиционно тяготится этим членством и очень старается быть похожей на естественные науки, форсируя позитивистскую методологию и, в частности, методы экспериментальной проверки [12, с. 203]. Однако, как бы то ни было, в любой из упомянутых нами дисциплин при всем их желании быть эмпирически верифицируемыми имеются проблемы, связанные, с одной стороны, с объективностью самого получаемого знания, а с другой – с включенностью в сферу изучаемых явлений (а следовательно, и в эксперимент) самого познающего субъекта и следующие из этого обстоятельства методологические трудности*. Что же касается истории, культурологии и прочих «истинно гуманитарных» дисциплин, то там, хоть и по другим причинам, вопрос об экспериментальных проверках вообще никогда всерьез не обсуждался.
В таких условиях на первый план выступают внеэмпирические средства верификации теоретического знания. Опираясь как на объективные внутритеоретические и логические методы, так и на субъективные критерии (в частности, эстетические), подобные средства позволяют избежать порочного круга экспериментирования субъекта над самим собой и в то же время сохранить объективность знания, не нарушая главного условия – его человекомерности, «гуманитарности». Обладая общенаучной значимостью, методы внеэмпирической проверки позволяют также провести параллели с естественнонаучными теориями, что немало способствует интеграции наук. Поэтому для философско-методологического анализа научного знания актуальность разработки внеэмпирических теоретических методов анализа знания, лишенного возможности прямой эмпирической проверки, не вызывает сомнений.
На наш взгляд, один из возможных методов контроля за позитивностью вводимых в модель гипотез можно развить, расширяя представление о фальсификационизме как поиске опровержений, которые оказываются установлением пределов применимости существующей теории и сопровождаются переходом к новой системе взглядов. Именно задача выяснения границ применимости теории, выявления ее ограниченности является основополагающей при решении вопроса о степени эпистемологической объективности содержащегося в ней знания*.
В общем случае фальсификация направлена на ограничение произвола в оперировании опровергающей аргументацией или аргументацией, направленной на «спасение» теории. В естественных науках принципу фальсификации свойственна еще одна функция – уточнение области применимости данной теории, что выглядит как выдвижение утверждений, которые затем проверяются экспериментально. Возникающие разногласия теории и опыта в дальнейшем служат поводом для «доработки» модели, лежащей в ее основе.
Однако гуманитарное теоретическое знание, несмотря на отмечаемый методологами науки параллелизм в развитии и даже категориальный изоморфизм с естественнонаучным теоретическим знанием [10, с. 23], все же не может сравниться с ним ни по универсальности моделей, ни по степени формализации самих теорий. Как известно, законы гуманитарных наук, эксплицируя причинно-следственные связи, не являются жестко детерминистичными, а отражают лишь преимущественные тенденции. В таких условиях говорить о границах применимости закона в общепринятом смысле нельзя, поскольку невозможно четко сформулировать логический критерий применимости, строго выполняющийся в каждом случае. Тем не менее нельзя утверждать, что социально-гуманитарное знание чуждо логически эксплицируемых причинно-следственных закономерностей между явлениями и событиями. Как пишет М.А. Кукарцева, с одной стороны, К. Поппер в работах «Нищета историцизма» и «Открытое общество и его враги», с другой – К. Гемпель в классическом труде «Роль общих законов в историческом исследовании» и поддерживающий их идеи Э. Нагель отрицали, что объяснение в гуманитарных и общественных дисциплинах (и конкретно в истории) может опираться на смутные интуитивные образы, эмпатию и т.п. Объяснение в этих сферах знания строится, по их мнению, с соблюдением логики ги-потетически-дедуктивного, а точнее, дедуктивно-номологического метода, в соответствии с которым история есть сложное соединение простых процессов, каждый из которых подчиняется специальному закону [4, с. 85]. Главную роль в таком типе объяснения играет так называемая «подводящая теория», задача которой подвести частные случаи под один глобальный закон (аналогичный законам естествознания). По мнению М.А. Кукарцевой, мотивы подводящей теории были сформулированы еще классическим позитивизмом Конта-Милля, а сама эта теория стала в сегодняшней аналитической философии истории едва ли не общим местом.
Противоположную позицию по данному вопросу занимал Георг фон Вригт, считавший, что естественным и гуманитарным наукам присущи в корне различные и несводимые друг к другу модели объяснения: аристотелевская (телеологическая или финалистская), присущая гуманитарному знанию, и галилеевская (каузальная или механистическая), характерная для естествознания. Полем приложения усилий фон Вригта стало конструирование новой формы логического вывода, так называемого «практического силлогизма», в котором отношение логического следования заменено отношением цели (Там же, с. 87).
Однако нетрудно заметить, что даже такой ярый критик гипотетико-дедуктивной модели объяснения в исторической науке, как Г. Фон Вригт, не отказывает логике быть инструментом методологического анализа социально-гуманитарного знания. Развивая силлогистическую модель телеологического объяснения, он тем самым признает за подчиненными определенной цели действиями возможность формальной экспликации. Поэтому не так уж и важно то, какая именно модель объяснения применима к социально-гуманитарному знанию. Главное, что возможен анализ причин событий на языке логики.
В связи с этим, на первый взгляд, роль принципа фальсификации как внеэмпирического критерия истинности сводится к традиционной критике логических оснований аргументации на этапе выдвиже- ния теории. Хорошим примером является известная историкам так называемая «внутренняя критика источников», задача которой – путем сопоставления информации из разных источников и ее логического анализа отделить подлинную основу исторического факта от позднейших наслоений и интерпретаций, подчас извращающих картину исторических событий, а также очертить круг достоверных источников, не противоречащих принятой концепции. Суть дела в свое время хорошо выразил Л.С. Клейн: «… задача проследить путь информации от объекта к источнику выступает здесь в виде задачи проследить изменения информации от этапа к этапу, а, в конечном счете – от источника к источнику. Некоторые более ранние источники (не сохранившиеся) приходится реконструировать по следам их использования в поздних» [2, с. 75]. Важно отметить, что и выдвижение концепции, и позднейшая критика источников полностью основываются на внеэмпирических критериях истинности знания, и что исторические документы и прочие материальные свидетельства являются, как правило, косвенными подтверждениями и допускают различные трактовки.
Казалось бы, в естественных и гуманитарных науках и роль, и само выражение принципа фальсификации различны. Однако нетрудно заметить, что как в том, так и в другом случае фальсификация помогает выявить когерентность (т.е. согласованность) знания: в случае, когда требуется установить границы применимости теории в естественных науках, речь идет о «внешней» когерентности теории по отношению к уже существующим, а в случае критики собственных оснований – о «внутренней», т.е. о логической и фактологической непротиворечивости. В обоих случаях фальсификация осуществляется собственными теоретическими средствами (в роли которых могут выступать и логико-математические средства) без обращения к сфере эмпирии*. В естествознании важную роль методологических ориентиров в осуществлении данной процедуры играют принципы «с онтологическим основанием» – симметрии и инвариантности, а также эстетические критерии – простоты, красоты и минимизации [6; 8; 11].
Какие же методологические ориентиры для внеэмпирического обоснования теорий используют гуманитарные науки? В том случае, когда принципиально невозможна финальная проверка гипотезы, в качестве такого ориентира могут выступать герменевтические критерии – понимания, осмысления. Характерным примером является историко-философская концепция Р.Дж. Колингвуда, согласно которой достоверность исторического вывода обеспечивается возможностью воспроизведения данной исторической ситуации другими учеными, исходящими из тех же принципов, что и предложивший новое объяснение историк, если при этом соблюдаются два условия. Первое условие – отсутствие противоречия с видением проблемы в целом. «Каким путем мы можем убедиться в истинности принципов нашего мышления? <…> Только продолжая мыслить в соответствии с ними и наблюдая, не возникает ли неопровержимая критика этих принципов в ходе нашей работы» [3, с. 219]. Второе важное условие принятия исторического вывода – его когерентность по отношению к уже принятым и устоявшимся концепциям. «Сеть, сконструированная в воображении» значительно более крепка, чем это кажется, и поэтому сама по себе может использоваться как критерий, с помощью которого можно определить, являются ли те или иные сообщаемые факты истинными. Коллингвуд поясняет это следующим примером: «Светоний говорит мне, что Нерон одно время намеревался убрать римские легионы из Британии. Я отвергаю это свидетельство Светония не потому, что какой-нибудь совершенный источник явно противоречит ему, ибо, конечно, у меня нет таких источников. Я отвергаю его, ибо, реконструируя политику Нерона по сочинениям Тацита, я не могу считать, что Светоний прав. И если мне заметят, что я просто предпочитаю Тацита Светонию, то я это признаю. Но само мое предпочтение объясняется тем, что я могу включить то, о чем поведал Тацит, в собственную связанную и цельную картину событий и не могу этого сделать с рассказом Светония» (Там же, с. 233).
Таким образом, в гуманитарных науках методы концептуальной и фактологической фальсификации в установлении непротиворечивости теории играют ту же роль, что и логико-математические методы в создании теорий естествознания, обеспечивающие априорную проверку правильности их выводов. Тем не менее не следует думать, что фальсификационизм способен решить все проблемы социально-гуманитарного знания без обращения к реальной научной практике. Принцип фальсификации не универсален: как это явствует из приведенных выше рассуждений, он работает лишь тогда, когда удается вскрыть и проследить причинно-следственную взаимосвязь событий и их причин. Между тем, сделать это удается далеко не всегда, но это не должно приводить к отказу гуманитарному знанию в научном статусе [13]. Необходимо также, как указывает У. Бартли, помнить об опасности возникновения «порочного круга» в случае применения принципа фальсификации к самому принципу фальсификации – если он нефальсифицируем, то не является научным суждением; если же он фальсифицируем, то неясны основания подобной фальсификации [9, с. 186 – 187]. И, наконец, принцип фальсификации противоречит известному тезису Дюгема-Куайна, утверждающему, что в силу системного характера научного знания эмпирическая проверка отдельно взятых положений теории невозможна [1, с. 344].
В заключение следует отметить, что фальсификация как процедура установления границ применимости теории в гуманитарном знании возможна тогда, когда модель, лежащая в ее основе, допускает строгую формализацию (т.е. является, по сути, математической). Примеры подобных теорий имеются в социологической и политической науке*. Как следствие, установление границ применимости здесь так же, как и в естественнонаучных теориях, происходит при помощи математических методов.
Список литературы Применение принципа фальсификации для обоснования истинности теоретических концепций социально-гуманитарных наук
- История экономических учений (современный этап): учебник/под общ. ред. А.Г. Худокормова. М.: ИНФРА-М, 2002.
- Клейн Л.С. Археологические источники. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978.
- Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография/пер. и ком. Ю.А. Асеева, ст. М.А. Кисселя. М.: Наука, 1980.
- Кукарцева М.А. Современная философия истории США. Иваново: Иван. гос. ун-т, 1998.
- Ларсен С. Введение//Теория и методы в современной политической науке/под ред. С. Ларсена; пер. с англ. М.: Рос. полит. энцикл., 2009.
- Мамчур Е.А. Внеэмпирические критерии в обосновании истинности теоретического познания//Практика и познание. М.: Наука, 1973.
- Мамчур Е.А. Объективность науки и релятивизм: (к дискуссиям в современной эпистемологии). М.: Изд-во ИФ РАН, 2004.
- Мамчур Е.А., Илларионов С. В. Регулятивные принципы построения теории//Синтез современного научного знания: сб. ст. М.: Наука, 1973.
- Порус В.Н. Принципы рациональной критики//Философия науки. Вып. 1: Проблемы рациональности. М.: ИФРАН, 1995. С. 185 -203.
- Розов М.А. О соотношении естественнонаучного и гуманитарного познания (проблема методологического изоморфизма)//Наука глазами гуманитария/отв. ред. В.А. Лекторский. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
- Федулов И.Н. Философско-методологические основания минимизации теоретического знания. Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2007.
- Юревич А.В. Структура теорий в социогуманитарных науках//Наука глазами гуманитария/отв. ред. В.А. Лекторский. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 202 -228.
- Philosophy of Economics. URL: http://plato.stanford.edu/entries/economics/#4.1.