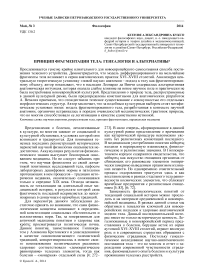Принцип фрагментации тела: генеалогия и альтернативы
Автор: Куксо Ксения александровнА.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (140), 2014 года.
Бесплатный доступ
Прослеживается генезис крайне влиятельного для новоевропейского самосознания способа постижения телесного устройства. Демонстрируется, что модель дифференцированного на мельчайшие фрагменты тела возникает в серии анатомических практик XVI-XVIII столетий. Анализируя центральную теоретическую установку «новой науки» анатомии - подход к телу как фрагментированному объекту, автор показывает, что в наследии Леонардо да Винчи содержалась альтернативная анатомическая интуиция, которая оказала слабое влияние на новое научное поле и практически не была востребована новоевропейской культурой. Представления о природе тела, распространенные в данной культурной рамке, были предопределены константными для анатомических разработок А. Везалия приемами, что отождествили телесное существование с совокупностью его отдельных морфологических структур. Автор заключает, что за подобным культурным выбором стоят метафизические установки эпохи: модель фрагментированного тела, разработанная в контексте научной анатомии, органично встраивалась в порядок очевидностей механистических трактовок природы, что во многом способствовало ее легитимации в качестве единственно истинной.
Научная анатомия, репрезентации тела, принцип фрагментации, парциальная медицина
Короткий адрес: https://sciup.org/14750655
IDR: 14750655 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Принцип фрагментации тела: генеалогия и альтернативы
Представления о болезни, легализованные в культуре, во многом зависят от социальной и культурной обстановки, в условиях которой они возникают и традируются. Для понимания генезиса последних реконструкций исторических перипетий научной физиологии оказывается недостаточно. Аккумуляция результатов физиологического знания выступает бесспорным основанием медицины. Но не следует забывать при этом, что научная физиология со своей догматикой позитивных исследований тела, пафосом лабораторных дешифровок нормы и патологии протекающих в нем процессов – традиция исторически недавняя, окончательно сложившаяся только к середине XIX века. Отсюда незаконность ее тотализации на длительный опыт медицинской истории, в результате которой сама фактичность последней искривляется до неполноценных («донаучных») врачебных традиций.
Для пересмотра данного заблуждения достаточно принять во внимание, что сами физиологические концепты возникают в определенной констелляции социальных обстоятельств и коллективных норм. Так, за генеративным для античной медицины понятием о здоровье как κράσις просматривается политическая почва. Данное понятие, заимствованное Гиппократом у Алкмеона Кротонского и унаследованное в качестве основополагающего галенистской традицией, конкретизировалось в момент своего возникновения политическими реалиями: здоровью соответствовало «демократическое равноправие» телесных элементов, тогда как болезни – «монархия» отдельной силы [4; 272–
273]. В свою очередь, сформированное в данной культурной рамке представление о врачевании как катартической процедуре невозможно уяснить без религиозных коннотаций последнего. В медицинском употреблении понятия κάθαρσις входили в неразрывную взаимосвязь физиологические и религиозные значения. В Гиппокра-товском корпусе содержатся свидетельства, что κάθαρσις как искусство очищения организма от сбивающих его равновесие элементов эмпирически замеримо выведением организмом излишних веществ. Но одновременно очистительный процесс оздоровления трактуется здесь и как восстановление в рамках отдельного тела равновесности космических элементов, что сближает врачебные предприятия с религиозным очищением [5; 83], [6; 72].
Зависимость физиологических понятий от тенденций социальной истории можно проследить и на материале средневековой и новоевропейской медицины. В рамках данной статьи мы обратимся к генеалогии ключевой для новоевропейских подходов к здоровью анатомической модели тела. Данный исследовательский интерес имеет не только историческую ценность. Легализованные в новоевропейский период представления о болезни, берущие исток из серии аутопсий XVI–XVIII столетий, играют весомую роль и в современных стратегиях обращения с физическим страданием. Постольку генеалогическое исследование научно-анатомического постижения тела – это во многом и отчет о зарождении современной чувственности страдания, феноменального опыта болезни и культуры проживания телесных расстройств.
Хорошо известно, что систематизация результатов научной анатомии кардинально повлияла на статус медицины, открыв для нее болезнь как биологический феномен и тем самым придав поиску эмпирически наблюдаемой универсальной причины телесной патологии значение ключевого акта врачебной практики. Позднейшие технологические расширения арсенала медицинских средств лишь закрепляли эту позитивно-научную максиму медицины, погружая внимание медиков в «объективность» болезни и легитимируя второстепенность их отношения к дискурсу пациентов. Так на волне распространения метода стетоскопической аускультации Р. Леннека «у врача появился такой критерий, по которому он мог суждение о болезни независимо от дискурса пациента» [3; 131]. Анатомически просвещенная медицина вытеснила интерес к феноменологическому опыту пациентов и их оценочным суждениям в отношении своих телесных расстройств. С ее развитием единственным экспертом по преодолению телесных патологий становится вооруженный анатомическими познаниями медик. Реализуемые в этих тенденциях постулаты поиска физиологической основы симптома и точечного вмешательства в пораженную телесную структуру указывают на присутствующее здесь устойчивое понятие физиологической нормы. В данной перспективе здоровое состояние тела оценивается как эффект исправности его отдельных систем, а патологии телесных процессов отсылают к некоторым неполадкам в анатомическом измерении соматики. Эта определенность физиологической нормы возникла в череде прозекторских практик основателей и адептов научной анатомии (В. Койтера, И. Фабриция, Б. Эустахио, Г. Фаллопия, А. Везалия, Т. Т. Керкинга, Г. Бидлоо, Ф. Рюйша, В. Гиса и др.).
С этого времени научная медицина сконцентрировалась на анатомическом измерении недугов, а заявленный здесь принцип фрагментации создал эпистемологическую почву для преимущественных в границах новоевропейской медицины стратегий обращения с телесным страданием. Анатомическая ангажированность врачебных практик этого периода придала фармацевтическим и физикалистским воздействиям на патогенные телесные структуры ключевую оздоровительную роль. Рассмотрим генеалогию идентификации тела, предопределившей данную медицинскую парадигму.
Возвышение телесных сегментов мотивировали анатомические разработки А. Везалия. Общеизвестно, что, выступив основателем традиции последовательной критики галенизма, Везалий разработал принципиально новую научную область – область основанной на наблюдении анатомии, тем самым полностью обновив форму и способ синтеза медицинского знания. Но не следует забывать при этом, что до Веза- лия анатомические изыскания, ведомые силой личного видения, проводит Леонардо да Винчи. Именно Леонардо удалось изобрести машину зрения соматической организации, свободную от позиционируемых галенизмом взаимообменов жидкостей и газов. Но сквозная интуиция анатомических разработок Леонардо представляла альтернативу магистральной линии развития научной анатомии, восходящей к фигуре Везалия. Это крайне существенное обстоятельство для понимания представлений, настраивающих целую эпоху новоевропейской медицинской науки.
Соматическая организация выступала предметом постоянных исследований Леонардо, основанием которых служил опыт живого видения. Ясно, что непосредственность акта видения – это теоретическая абстракция, он предопределен способом зрения, который необходимо изобрести или усвоить. Анатомические наблюдения Леонардо были проникнуты особой теоретической установкой, которая воплотилась в изобретенном им роде зрения – dimonatrazioni. Его специфика заключается в том, что последнее порождало «образы целостного знания». Этот зрительный эксклюзив определялся стремлением свести в единстве образа многочисленные наблюдения за телом [1; 51] и тем самым создать иконологическое выражение многообразия телесных возможностей. Так на кончике грифеля Леонардо рождаются симультанные образы телесных структур, которые мгновенно раскрывают многообразие своих потенций.
Тем не менее основополагающей идеей научной анатомии, в формировании которой ключевую роль сыграл А. Везалий, становится фрагментированное тело.
В трактате «О строении человеческого тела» (1543) Везалий определяет свои достижения как начала «новой науки», и данная позиция полностью обоснованна. Будучи изобретателем европейской морфологической номенклатуры и виртуозом терминологической проработки органики, он заложил фундамент функциональной модели тела. Всем способам заключения о телесной организации предпочел специализированный научный язык, подходя к телу с детализированной терминологией. Терминологический язык устанавливает неподвижные перегородки в целостности телесного существования. Так, описание тела посредством проработанной терминологии уточняет картины устройства его составных частей, но тем самым и фрагментирует его. Для осмысления тела с помощью анатомической терминологии детализированное знание о составляющих его элементах становится самодостаточным. Представление о телесной целостности в данной перспективе вытесняется.
Значимо, что сопровождающие работы Везалия иллюстрации Я. С. ван Калькара не меняют положения дел. В этой образности органы начинают жить собственной жизнью: явно задумав- шийся скелет придерживает размещенный пред ним на кафедре мозг; ряд внутренних органов располагаются на траве близ ног анатомических моделей, как если бы фиксируемая здесь самостоятельность была для них естественна. Этот изобразительный прием невозможно объяснить исключительно желанием популяризации новой науки. Его эффект куда глубинней: данные репрезентации тела решают проблему отношения к живому телу анатомической модели; собственным драматизмом они убеждают, что безжизненное разъятое на части тело воплощает в себе истину телесного существования, а не является безразличным к жизни научным объектом.
Именно эта модель разбитого на части тела стала ключевой в новоевропейских стратегиях объяснения телесной организации. И дело не только в ее позитивно-научной ценности – влиянии на расширение горизонтов хирургии. Решающую роль в ее научной легитимации сыграла тенденция механицизма XVI–XVII столетий. Модель сегментированного тела органично вписалась в метафизический облик эпохи с присущим ей выбором идеи механизма как принципа постижения природы. Именно поэтому технические расширения механицизма воодушевляли грандиозные анатомические открытия. Так, за теорией кровотока У. Гарвея проглядывают достижения инженерной мысли. Окруженный механическими насосами [2; 107], Гарвей обнаруживает ритмические сокращения сердца и движение крови по артериям «как по трубам». Фундирующая эту аналогию механика дает ему метафорический арсенал и словарь, необходимый для формулировки новой кардиологии и теории кровообращения. Механика, которая для Античности вообще не наука, становится в Новое время образцом описания природы. Отныне воображение Запада предметно явлено в виде труб, водопроводных клапанов, канализаций, насосов. Концепция непрерывной циркуляции крови по общему и легочному кругам Гарвея как первопричины здоровья мгновенно воплощает в себе данное понимание природы. Это рельефно показывает, как действительность анатомической науки, характер ее тенденций конкретизировался в горизонте культурной физиогномики. И пример Гарвея здесь далеко не единственный.
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-33-01251.
PRINCIPLES OF SOMATIC FRAGMENTATION: GENEALOGY AND ALTERNATIVES
Список литературы Принцип фрагментации тела: генеалогия и альтернативы
- Да Винчи Л. Тетради по анатомии (Т. 1)//Да Винчи Л. Анатомия: записи и рисунки. М.: Наука, 1965. С. 9-52.
- Епифанов Н.С. Уильям Гарвей. Киров: Вятка, 2002. 288 с.
- Лахмунд Й. Изобретение слушающей медицины. К исторической социологии стетоскопии//Болезнь и здоровье: новые подходы к истории медицины. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Алетейя, 2008. С. 104-136.
- Мнения философов//Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989. 576 с.
- Наставления//Гиппократ. Этика и общая медицина. СПб.: Азбука, 2001. С. 79-88.
- О благоприличии//Гиппократ. Этика и общая медицина. СПб.: Азбука, 2001. С. 69-78.