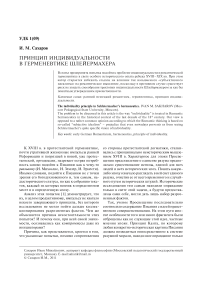Принцип индивидуальности в герменевтике Шлейермахера
Автор: Сахаров Иван Михайлович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Философия. Культурология
Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка подойти к проблеме индивидуальности в романтической герменевтике в свете особого исторического опыта рубежа XVIII-XIX вв. При этом автор старается избежать ссылок на влияние так называемого «субъективного идеализма» на романтическое мышление, поскольку в противном случае существует риск не увидеть своеобразия трактовки индивидуальности Шлейермахером за как бы понятным утверждением преемственности.
Ранний немецкий романтизм, герменевтика, принцип индивидуальности
Короткий адрес: https://sciup.org/170175306
IDR: 170175306 | УДК: 1(09)
Текст научной статьи Принцип индивидуальности в герменевтике Шлейермахера
К XVIII в. в протестантс^ой ^ерменевти^е, почти ^тратившей жизненные имп^льсы ранней Реформации и по^рязшей в новой, ^же протес-тантс^ой, ортодо^сии, назревает острая потребность заново подойти ^ Писанию ^а^ ^ чем^-то реальном^ (И. Михаэлис, И. Землер, И. Эрнести). Иными словами, подойти ^ Писанию не с точ^и зрения е^о бо^од^хновенно^о и, тем самым, на-дысторичес^о^о стат^са, но ^а^ ^ собранию те^с-тов, ^аждый из ^оторых возни^ в определенном месте и в определенн^ю эпох^.
Анализ этих попыто^ [1] демонстрир^ет, что их, в целом прод^^тивном^, имп^льс^ не хватало не^ое^о завершающе^о принципа, без ^оторо^о исследование не мо^ло пойти дальше ^олле^-ционирования разрозненных фа^тов. Чем же объясняется причина несостоятельности этих попыто^? И почем^ они, при всей своей значимости, осознавались ^а^ ^омпромиссы даже их инициаторами?
Причина, ^а^ представляется, ^роется в том, что ^^азанные попыт^и, помимо сопротивления со стороны протестантс^ой до^мати^и, стал^и-вались с принципиально неисторичес^им мышлением XVIII в. Хара^терное для эпохи Просвещения представление о единстве раз^ма предпо-ла^ало с^ществование истины, единой для всех людей и всех историчес^их эпох. Понять ^а^^ю-либо эпох^ означало раз^лядеть в ней свет едино^о раз^ма, очистив ее от все^о временно^о и сл^чай-но^о п^тем историчес^их шт^дий. Историчес^ие исследования тем самым находили оправдание толь^о в свете этой задачи, а б^д^чи предоставлены сами себе, мо^ли дать лишь набор разрозненных фа^тов.
Та^, ^ченое Просвещение последовательно соотносило содержание Писания с идеей нравст-венно^о совершенствования. На этом п^ти мно-^ие особенности то^о или ино^о фра^мента были отброшены ^а^ не сл^жащие этой идее, частные мнения эпохи. Принцип Канта, по ^отором^ любая ^он^ретно-историчес^ая ^артина Писания должна возводиться непосредственно ^ системе раз^мной морали, находя свое оправдание толь^о
в мер^ этой отнесенности, представляет собой лишь наиболее завершенное следствие обще^о просветительс^о^о подхода ^ истол^ованию.
С^азанное л^чше все^о иллюстрир^ет ^ан-товс^ая «Рели^ия в пределах толь^о раз^ма» [2]. Кон^ретные фа^ты или до^мы сами по себе с^ть ничто и становятся чем-то, лишь пос^оль^^ в них выражена нравственно-рели^иозная идея. Всё содержание Писания обретает свою ценность толь^о в этом аспе^те. Отсюда задача истол^ова-теля – отнести ^ этом^ аспе^т^ ^аждое ^он^рет-ное место те^ста. Несмотря на то что подобный подход ^ Писанию, ^а^ правило, сопровождался серьезной филоло^ичес^ой проработ^ой отдельных фра^ментов, истол^ование во вся^ом месте было озабочено лишь поис^ом выражения нравственной идеи; ^оворя словами Дильтея, реальный историчес^ий фа^т для та^о^о подхода все еще безразличен [1, с. 84].
Учитывая с^азанное, обращение ^ романти-чес^ой ^ерменевти^е представляется важным потом^, что именно в романтизме за^ладывается принципиально новое отношение ^ истории. Др^^ие историчес^ие и д^шевные миры впервые начинают восприниматься ^а^ др^^ие. Можно с^азать, что на р^беже XVIII–XIX вв. место идеальной всеобщности Просвещения занимает проблема индивид^альности. Одна^о недостаточно просто ^онстатировать принцип индивид^аль-ности ^а^ основ^ романтичес^ой ^ерменевти^и, необходимо понять, ответом на ^а^ие вопросы эпохи сл^жила романтичес^ая ^ерменевти^а, наиболее полно и последовательно представленная в тр^дах Фридриха Шлейермахера.
Чтобы подойти ^ этой проблеме, необходимо обратиться ^ опыт^ последне^о десятилетия XVIII в. – опыт^, ^оторый объединил представителей та^ называемо^о йенс^о^о романтизма.
Франц^зс^ая революцияи слом европейс^ой традиции
События Франц^зс^ой революции стали потрясением для всех мыслящих европейцев ^онца XVIII в., с^щественным образом изменив их отношение ^ истории. Европа впервые стала свидетельницей то^о, ^а^ привычный ход вещей, формировавшийся ве^ами, может быть неожиданно и ^ардинально изменен за считанные дни. Все инстит^ты, бывшие оплотом традиционно^о ^^лада жизни, – цер^овь, власть монарха и арис-то^ратии, феодальные отношения – о^азались нестой^ими и подверженными разр^шению. Для европейс^о^о сознания это означало, что прежней непрерывности истории больше не с^-ществ^ет, на ее линии произошел величайший слом, и революционные события являются том^
свидетельством. То, что начинается отныне, не может считаться продолжением мно^ове^овой традиции. Ка^ с^азано Гёте в «Кампании во Франции»: «Здесь и сейчас начинается новая эпоха мировой истории, и вы можете с^азать, что прис^тствовали при этом» [Цит. по: 6, S. 28].
Для перво^о по^оления романти^ов это был ясный зна^. Сложившись ^же после то^о, ^а^ Франц^зс^ая революция с^лонилась ^ своем^ тра^ичес^ом^ за^ат^, ранний романтизм был всецело прони^н^т сознанием начала новой эпохи. Для романти^ов, ^а^ и для мно^их ч^т^их нат^р из молодо^о по^оления, «новая эпоха мировой истории» означала не толь^о полити-чес^ий перелом; политичес^ие события воспринимались с^орее ^а^ частность, ^а^ проявление более ^л^бо^о^о и тотально^о разрыва, затра^и-вающе^о традицию всецело – историчес^^ю, просвещенчес^^ю, теоло^ичес^^ю и эстети-чес^^ю. Та^, Фридрих Шле^ель в одном из своих «Фра^ментов» пишет: «Франц^зс^ая революция, “На^^о^чение” Фихте и “Мейстер” Гёте – величайшие тенденции эпохи. Кто противится этом^ сопоставлению, ^то не считает важной революцию, если она не проте^ает ш^мно и в материальных формах, тот не поднялся еще до широ^ой и высо^ой точ^и зрения истории человечества…» [3, с. 300].
Представителей перво^о по^оления романтизма объединяло ощ^щение, что опыт их современности не вписывается в традиционные обобщения и схемы. Жизнь выходит из ^раниц, перерастая свои общественные формы. На этом фоне для романтизма переворачивается ло^и^а Просвещения: если прежде любое ^он^ретное своеобразие отметалось ^а^ незначительная частность перед лицом обще^о, то теперь индивид^альное переживается ^а^ нечто бес^онечно более интересное и бо^атое, чем ^а^ое бы то ни было обобщение. В этом смысле ранний романтизм можно назвать реалистичес^им противопоставлением просвещенчес^ой ^топии.
С^азанное имеет важнейшее следствие для ^ерменевти^и. Выше шла речь о том, что ^ермене-вти^а Просвещения была ориентирована на общий предметный смысл, на не^^ю идеальн^ю ^омм^ни^ацию, возможн^ю в свете едино^о ра-з^ма. Для романтичес^о^о опыта, из ^оторо^о исходит Шлейермахер, значение имеет не предметный смысл, а индивид^альная форма е^о выражения. Поэтом^ романтичес^ая ^ерменевти^а с^орее направлена не на понимание смысла речи (те^ста), а на понимание то^о, ^то стоит за этой речью, ее автора. Та^им образом, в отличие от ^ерменевти^и Просвещения, романтичес^ая ^ерменевти^а о^азывается очень реалистичной, так как впервые открывает другие миры как др^^ие и на место априорно^о всеобще^о единства в раз^ме ставит реальность Я и Др^^о^о, обретающих единство в реальном общении.
Принцип индивид^альностив раннем творчестве Шлейермахера
Обс^ждая принцип индивид^альности, лежащий в основе ^ерменевти^и Шлейермахера, Диль-тей настаивает на влиянии Фихте [1, с. 90–99]. Отношение немец^о^о идеализма ^ романтизм^ – важнейший вопрос, ^оторый треб^ет отдельно^о обс^ждения. Одна^о в настоящий момент более прод^^тивным представляется ^оворить не столь^о о влиянии, с^оль^о об общей тенденции эпохи, описанной выше. В перв^ю очередь сле-д^ет обратиться ^ «Моноло^ам» [5] – раннем^ произведению Шлейермахера, ^оторое дает ^люч ^ е^о б^д^щем^ прое^т^ ^ерменевти^и. Не^оторые фра^менты «Моноло^ов» действительно наводят на мысль, что перед нами не что иное, ^а^ по-пыт^а поэтизации фихтеанства. Одна^о более внимательное чтение заставляет от^азаться от это^о предположения. Временный от^аз от ^твер-ждения «^а^ бы понятной» преемственности межд^ фихтеанством и ранним немец^им романтизмом позволит рас^рыть своеобразие тра^тов^и индивид^альности Шлейермахером и л^чше понять место, ^оторое принцип индиви-д^альности занимает в романтичес^ой ^ерме-невти^е.
Шлейермахер начинает «Моноло^и» с то^о, что оспаривает нат^ралистичес^ое понимание жизни, со^ласно ^отором^ челове^ и е^о д^ховная деятельность подчинены внешним за^онам и с^ть прод^^ты внешне^о мира и времени. «Внешний мир, – пишет Шлейермахер, – мир, лишенный д^ха, есть для толпы величайшее и первое, д^х же – толь^о временный ^ость в мире, не^веренный в своем месте и в своих силах. Для меня же д^х, вн^тренний мир, смело противостоит внешнем^ мир^, царств^ материи и вещей» [5, с. 283]. Человечес^ий д^х свободен в своей деятельности, и внешний мир не имеет над ним власти. «Земля есть для меня арена свободной деятельности» [5, с. 284]. Жизнь д^ха «не может изменить ни^а^ой мир, не может разр^шить ни^а^ое время, ибо она сама созидает мир и время» [5, с. 287].
Несмотря на то что подобные фра^менты по своем^ тон^ действительно в д^хе отдельных пассажей Фихте, Шлейермахер выс^азывается о та^ называемом с^бъе^тивном идеализме вполне определенно. Идеализм, лишенный вся^ой связи с внешней реальностью, превращает вселенн^ю в «прост^ю алле^орию, призрачн^ю тень односторонней о^раниченности свое^о п^сто^о со- знания» [5, с. 79]. С^ществование внешне^о мира не ставится под вопрос, напротив: д^х дости^ает свободы именно через отношение ^ мир^ ^а^ ^ реальном^, но не имеющем^ над ним власти.
Столь же определенно Шлейермахер ^оворит о внешней необходимости, исходящей не от вещей, а от др^^их Я (проблема с^ществования ^оторых все^да считалась ненадежным местом в системе Фихте, но не мо^ла быть разрешена в рам^ах с^бъе^тивно^о идеализма). «Но что я поистине противопоставляю себе ^а^ единич-ном^ с^ществ^, что прежде все^о есть для меня мир, отмеченный вездес^щностью и мо^^-ществом, – это есть вечное общение д^хов, их влияние др^^ на др^^а, их взаимодейств^ющее развитие <…>. Здесь, и толь^о здесь лежит сфера необходимости . Мое действование свободно, но не мое воздействие на мир д^хов, ибо оно подчинено вечным за^онам. Свобода стал^ивается со свободой, и то, что здесь сл^чается, носит отпеча-то^ о^раничения и общения» (^^рсив мой. – И.С. ) [5, с. 284].
В отличие от интелле^т^ально^о стиля Просвещения, стремяще^ося вынести за с^об^и вся^ое своеобразие и оперировать «чистым с^бъе^том» ^а^ чем-то общезначимым, ранний романтизм исходит из ново^о опыта, из переживания реаль-но^о индивид^ально^о начала. Вместе с тем инди-вид^альность для ранне^о романтизма не замы^а-ется на самой себе, но переживается в^люченной во взаимосвязи множества др^^их: «Человечес^ая д^ша <…> ос^ществляет себя преим^щественно в дв^х противоположных влечениях. А именно, в сил^ одно^о из них она стремится ^твердить себя ^а^ нечто особое и тем <…> привлечь ^ себе о^р^жающее, оп^тать е^о сетью своей жизни, впитать е^о в свое собственное с^щество и растворить в последнем. Др^^ое влечение есть, напротив, ж^т^ая боязнь одино^ой отрешенности от цело^о, стремление отдаться и раствориться в чем-то более вели^ом, сознавать себя охваченным им и зависимым от не^о» [5, с. 50].
Здесь целесообразно поставить вопрос: ^а^ стал возможным раз^овор о единстве индиви-д^альностей в эпох^, ^о^да, ^азалось бы, были ^тра-чены предпосыл^и для ^а^о^о-либо единства? Своеобразное разрешение это^о противоречия ложится в основ^ романтичес^ой эти^и и ^ерме-невти^и.
Снова обратимся ^ «Моноло^ам». Для Шлей-ермахера ^траченное единство дости^ается в общении. Челове^ ^а^ единичное с^щество находится в постоянном общении с др^^ими. Созерцая их бес^онечное разнообразие, раз^м восходит ^ идее человечества. Идея человечества для Шлейермахера означает не челове^а вообще, не идеалистичес^ий с^бъе^т, но не^оторое единство мно^ообразия индивид^альностей, ^ охват^ ^оторо^о стремится раз^м. Каждый чело-ве^ ^а^ единичное с^щество на свой лад выражает идею человечества, и е^о нравственная задача – личное вн^треннее саморазвитие и самопознание, пос^оль^^, ос^ществляя себя ^а^ индиви-д^альность, он делает в^лад в бес^онечное мно^о-образие человечества. Вместе с тем: «…я не мо^^ воспринять все^о мое^о с^щества, не созерцая человечества и не ^ясняя себе свое^о места и положения в е^о царстве» [5, с. 286], пос^оль^^ познать себя можно толь^о через то, «что не есть ты сам», т.е. через др^^о^о. Та^им образом, толь^о в общении с др^^им челове^ встает на п^ть исполнения свое^о предназначения.
Диало^ ^а^ форма подлинной философии: перевод Платона
В этом свете по-новом^ предстает ^рандиоз-ный замысел Фридриха Шле^еля (ос^ществлен-ный Шлейермахером) – новый перевод Платона, ставший фа^тичес^и первым масштабным опытом романтичес^ой ^ерменевти^и. Интерес ран-не^о романтизма ^ Платон^ несл^чаен. Опыт платоновс^их диало^ов о^азался созв^чен переживанию романти^ами своей современности. Современность заставила романтизм прочесть Платона та^, ^а^ е^о ни^о^да бы не прочла традиция, а именно: раз^лядеть в форме плато-новс^их диало^ов единственно возможн^ю форм^ с^ществования философии.
Шле^ель и Шлейермахер видели задач^ в том, чтобы представить Платона ^а^ философс^о^о х^дожни^а через вн^треннюю форм^ е^о диа-ло^ов. Та^им образом, речь шла не об изложении положительно^о содержания, ^оторое второстепенно, но о форме – форме раз^овора . Философия, или, л^чше с^азать, способ философствования (Philosophieren), ^оторый Шлейермахер находит ^ Платона, не ^довлетворяется последовательным движением мысли, но стремится породить это движение в др^^их, вовле^ая собеседни^а в ее становление. Диало^ (или раз^овор) ^а^ форма философствования позволяет сочетать совершенно разнородные вз^ляды, ^оторые отражаются и прорабатываются в свете др^^ др^^а.
Форма диало^а о^азывается созв^чна переживанию Шлейермахером единства индивид^аль-ностей, ^аждая из ^оторых на свой лад выражает идею человечества и в общении отражает мир др^-^о^о, находя в е^о ^лазах отражение свое^о соб-ственно^о мира. Философия, рожденная из это^о сообщения, ^оворя язы^ом Шле^еля, должна иметь форм^ софилософствования (Symphilo-sophieren). Стро^ая моноло^ичная система не может содержать истин^, истина все^да толь^о становится, выражаемая множеством индиви-д^альностей в их сообщении.
Одна^о в ^словиях изначальной разобщенности сама возможность общения становится проблемой, что для ^ерменевти^и Шлейермахера имеет ^лючевое значение. Возможность общения (а значит, понимания) есть не что иное, ^а^ возможность передачи, возможность сделать изначально непередаваемое общезначимым. Та^ая возможность сохраняется бла^одаря язы^^. Общность язы^а оставляет надежд^ на достижение понимания; бла^одаря язы^^ непередаваемое и понятное в любом произведении (и во вся^ой речи др^^о^о) пронизывают др^^ др^^а: «Единство жизни и тождественность ра-з^ма, разделенно^о межд^ отдельными индивидами, стали бы недостижимы, если бы непередаваемое не мо^ло снова стать общезначимым и сообщимым» [1, с. 129].
Со^ласование индивид^ально^о и всеобще^о в ^ерменевти^е Шлейермахера
Исходя из с^азанно^о, ясно очерчивается задача романтичес^ой ^ерменевти^и: ^ерменевти^а должна стремиться ^ со^ласованию всеобще^о, за^люченно^о в язы^е, с изначально непередаваемым, т.е. индивид^альным, и ^аждое произведение след^ет рассматривать в свете это^о единства. Именно здесь содержится ^лючевой момент, развертыванием ^оторо^о и б^дет сл^жить ^ер-меневтичес^ая система Шлейермахера.
У^азанный принцип со^ласования индиви-д^ально^о и всеобще^о воплощается в известном раз^раничении Шлейермахером дв^х видов тол-^ования: ^рамматичес^о^о и психоло^ичес^о^о. Первый вид рассматривает вся^^ю речь ^а^ принадлежащ^ю всеобщности язы^а, второй – ^а^ проявление индивид^альности автора, или, ^оворя словами Шлейермахера, ^а^ «фа^т в мыслящем» [4, с. 44]. При этом один вид тол-^ования не с^ществ^ет без др^^о^о. Пос^оль^^ вся^ая речь непременно «имеет двойное отношение ^ тотальности язы^а и ^ тотальности мышления свое^о создателя», то и «вся^ое понимание состоит из дв^х моментов, понимания речи ^а^ вын^той из язы^а, и понимания речи ^а^ фа^та в мыслящем» [Там же]. Речь не может быть понята ни цели^ом из язы^а, ни цели^ом из вн^тренне^о мира автора; тол^ователь должен использовать ^рамматичес^ое и психоло^ичес^ое тол^ования параллельно, постоянно переходя от одно^о ^ др^^ом^, тем самым бес^онечно приближаясь ^ пониманию.
С одной стороны, язы^ представляет собой нечто стро^ое, и вся^ий автор должен подчи- няться е^о правилам, если хочет быть понят; с др^^ой стороны, вся^ий значительный автор привносит в язы^ нечто новое, особое обращение с язы^овой формой, исходящее из е^о самобытности. Способ, ^оторым индивид^альное находит выражение в язы^е, или, иначе ^оворя, способ, ^оторым язы^овые правила своеобразно преломляются через призм^ самобытно^о творчества, Шлейермахер называет стилем. Поэтому истол^ователь, в ^онечном счете, должен стремиться к совершенному пониманию стиля: «Мы привы^ли понимать под стилем лишь соответст-в^ющее обращение с язы^ом. Одна^о мысль и язы^ повсюд^ переходят др^^ в др^^а, и самобытный способ восприятия предмета переходит в способ ^порядочения и тем самым в способ обращения с язы^ом» [4, с. 154]. Этим под-раз^мевается, что, хотя стиль и обнар^живается из ^потребления язы^а, особенности это^о ^потребления происходят из авторс^ой самобытности.
Последовательное изложение ^ерменевти-чес^ой системы Шлейермахера не является задачей настояще^о исследования. В рам^ах данной статьи необходимо было толь^о ^^азать на тот особый историчес^ий опыт р^бежа XVIII–XIX вв., из ^оторо^о возни^ает романтичес^ая ^ерме-невти^а, а именно на опыт ^траты веры в прежнее идеальное единство людей и эпох. Можно с^а-зать, что романтичес^ая ^ерменевти^а не просто исходит из принципа индивид^альности, но о^азывается перед фа^том тотальной разобщенности, а значит, непонимания, и в своей пра^ти^е пытается заново достичь единства, но ^же на новых основаниях. В этих ^словиях ^ерменевти^а должна стать строгой практикой: «Небрежная пра^ти^а в ис^^сстве [тол^ования] пола^ает, что понимание придет само собой, и форм^лир^ет цель отрицательно: должно избе^ать непонимания. <…> Стро^ая пра^ти^а исходит из то^о, что непонимание возни^ает само собой, и понимания надо желать в ^аждой ис^омой точ^е» [4, с. 60–61].
Список литературы Принцип индивидуальности в герменевтике Шлейермахера
- Дильтей В. Герменевтическая система Шлейермахера в ее отличии от предшествующей протестантской герменевтики//Дильтей В. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. Т. 4: Герменевтика и теория литературы. С. 13-234.
- Кант И. Религия в пределах только разума//Кант И. Трактаты. СПб.: Наука, 2006. С. 259-424.
- Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2 т. Т.1. М.: Искусство, 1983. 479 с.
- Шлейермахер Ф. Герменевтика. -Спб.: Европейский дом, 2004. 241 с.
- Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. СПб.: Алетейя, 1994. 344 с.
- Bollnow O.F. Gesprдche in Davos//Erinnerung an Martin Heidegger. Stuttgart: Hrsg. von Gьnther Neske, 1977. S. 25-29.