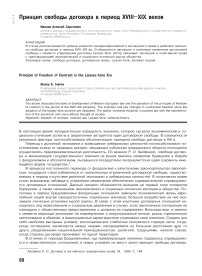Принцип свободы договора в период XVIII-XIX веков
Автор: Иванов А.С.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: ЭССЕ
Статья в выпуске: 1 (1), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается уровень развития западноевропейского договорного права и действия принципа свободы договора в период XVIII-XIX вв. Отображается эволюция и ключевые изменения договорной свободы с момента утверждения доктрины Laissez-faire. Автор связывает эволюцию в позитивном праве с трансформацией экономической и социально-этической мысли общества.
Свобода договора, договорное право, волевая теория
Короткий адрес: https://sciup.org/14121152
IDR: 14121152
Текст научной статьи Принцип свободы договора в период XVIII-XIX веков
В настоящее время затруднительно определить значение, которое сыграли экономический и социально-этический аспекты в закреплении авторитета идеи договорной свободы. В совокупности указанные факторы поспособствовали абсолютизации принципа свободы договора в XIX в.
Переход к рыночной экономике и возвышение либеральных ценностей поспособствовало постепенному отказу от правовых доктрин, мешающих субъектам гражданского оборота полноценно осуществлять предпринимательскую деятельность. По мнению Р. О. Халфиной, «свобода договора и минимизация государственного влияния на рынок явились символом буржуазии в борьбе с феодализмом и абсолютизмом, пытавшихся посредством патерналистских идей сохранить имеющуюся форму государства»1.
В процессе постепенного перехода от феодализма к капитализму законодательство европейских государств стало избавляться от значительных ограничений договорной свободы, существовавших в период отсутствия рыночной экономики и либеральных ценностей. В позитивном праве стало возможным наблюдать устранение механизмов обеспечения содержательной справедливости договорных отношений. Данный процесс объясняется выходом на первый план интересов буржуазии, а также изменением экономических и социально-этических взглядов в обществе. Поскольку в период Средневековья феодальные отношения замкнули экономическую жизнь европейских наций внутри самодостаточных социальных анклавов, большое воздействие на нее оказывали этические установки малой группы. В связи с этим участники договорных отношений находились под нравственным и социальным давлением в случае, если заключенное соглашение не совпадало с общественным представлением о должном их содержании. Впоследствии, а именно с момента перехода экономики на коммерческие и индустриальные начала, рынок стремительно увеличивался в объемах, а вышеуказанные характеристики утрачивали свое значение. Создать для себя наиболее выгодные условия, воспользоваться слабостью контрагента гораздо легче тогда, когда соглашение заключается между лицами, находящимися на большом расстоянии друг от друга, разделенными национальной принадлежностью, религией, традициями, нежели случаи, когда стороны договора проживают на одной территории.
В отличие от периода Средневековья, где превалирующее значение отдавалось справедливости и нравственности соглашения, в новых условиях их место занял принцип свободы договора.
С начала XIX в. западноевропейские страны повернули вектор развития права в сторону увеличения договорной свободы и отражения потребностей рыночной экономики в законодательстве. Таким образом, как отмечают многие ученые, принцип невмешательства ворвался в договорное право европейских государств2.
ЭССЕ
Закрепление юридической силы договора являлось необходимым в связи со стремительным ростом капиталистических отношений, рынка акций, корпораций и зарубежной торговли. Таким образом, произошла замена базовой модели контракта: место одномоментного обмена занимает договор, который определяет права и обязанности контрагентов на будущее и регламентирует ответственность за нарушение его условий. Участникам гражданского оборота требовались гарантии исполнения контрагентом условий договора, в связи с чем законодательство стало их обеспечивать. Британский ученый Дэвид Иббетсон отмечает, что «консенсуальный договор, порождающий обязательства контрагентов в силу одной лишь их воли, выраженной в заключенном соглашении, явился фундаментальным инструментом частного планирования, вытеснив конструкцию реального договора на периферию»3. По мнению Патрика Атья, «конструкция консенсуального договора распределяла между контрагентами риски, связанные с исполнением договора, а также обеспечивала гарантии посредством наличия возможности принудительной реализации обязательств судебными органами, тем самым обеспечивая «контроль над будущим»4.
Применение конструкции консенсуальных договоров поспособствовало привлечению внимания к феномену возникновения обязательств, которые имеют судебную защиту в силу одного лишь факта волеизъявления сторон. В связи с этим, как отмечает Джеймс Гордли, в XVIII в. в западноевропейских странах основными стали формы волевой теории, которые связывают возникновение юридических последствий с волей сторон договора5.
Однако популярность волевой теории нельзя считать кардинальным переворотом, поскольку ее сущность признавалась еще в римском праве. Различные технические проблемы, такие как признание непоименованных договоров, разрешились еще в XVI–XVIII вв., поспособствовав переосмыслению значения консенсуального договора. Таким образом, волевая теория договора базировалась на научно-правовых знаниях, разработанных юристами прошлых эпох. К изменениям, произошедшим в XIX в., Дэвид Иббетсон относит: 1) силу, с которой правоведы проповедовали фактор свободной воли; 2) роль, отведенную автономии воли контрагентов в научной литературе и судебной практике; 3) готовность законодательных органов кодифицировать волевую природу договора6.
В связи с популяризацией волевой теории договор становился независимым от государственного вмешательства, поскольку представлял собой согласованную контрактом волю сторон. Таким образом, новшество договорного права рассматриваемой эпохи заключалось в становлении элемента выраженной в договоре воли контрагентов в качестве фундаментального начала, определяющего сущность частных норм договорного права.
Провозглашенная в Corpus Juris Civilis и не используемая в Средневековье идея о возможности участников договорных отношений законно обхитрить друг друга и использовать свои преимущества для выгадывания для себя условий, на которые добровольно согласится контрагент, стало базовым принципом договорного права в XIX в.
Напротив, справедливость и добросовестность соглашения в эпоху Laissez-faire не признавались в качестве принципов договорного права большинством западноевропейских государств.
Данный подход расширил область свободы договора, исключив ограничения римского, канонического и феодального права, мешавшие стремительному развитию рыночной экономики.
Было положено начало разработке научных вопросов, касающихся договорной свободы. В периоды Античности и Средневековья свобода договора изучалась лишь отчасти (вопросы, касающиеся непоименованных соглашений, допустимости государственного вмешательства в регулирование отдельных видов контрактов), а свобода договора не рассматривалась как основополагающее начало частного права.
Законодатель был вынужден разрабатывать нормы договорного права, которые направлены на обеспечение гарантий сторон, определенных условиями договора, поскольку активные участники гражданского оборота нуждаются в стабильном правовом поле, позволяющем им действовать
ЭССЕ
в рамках правовых ожиданий для возможности построения собственных экономических планов. Патрик Атья по этому поводу отмечает, что «приоритет долгосрочных интересов над краткосрочными охватывал все договорное право периода Laissez-faire в XIX в.»7.
Превалирующее значение в договорном праве стал занимать правовой формализм. Роль суда заключалась в устранении неоправданных барьеров для совершения частных соглашений и обеспечения принудительного исполнения достигнутых между сторонами договоров8. Таким образом, функция суда носила пассивный характер и заключалась в интерпретации соглашений в соответствии с их буквальным значением. Как отмечает Э. Маккендрик: «Корректировка договорных условий, в целях обеспечения справедливого баланса интересов контрагентов, не являлась задачей суда»9. Сущность изменившегося подхода представляется следующим образом: «Что основывается на договоре, то является справедливым»10.
При желании ограничить и проконтролировать содержание контрактов, в целях скрыть вмешательство со стороны государства, судами применялись разнообразные искусственные маневры. Применению подлежали ссылки на доктрины обмана, насилия, принуждения, каузы сделки, принципы толкования договора и иные институты договорного права, которые не предназначены для защиты участника договорных отношений от несправедливости условий сделки. Стоит отметить, что в связи с отсутствием в законодательстве механизмов прямого контроля справедливости договорных условий, а также изменением отношения к государственному вмешательству в частные дела объем вышеупомянутой практики, по сравнению с предыдущей эпохой Средневековья, является незначительным.
В большинстве западноевропейских государств происходила отмена законодательных актов, касающихся ограничения процентных ставок по ссудам.
Уже в XVII в. воззрения о греховности требования вознаграждения за предоставление заемных денежных средств утратили свою значимость. Впоследствии некоторые страны отказались также и от осуществления контроля над процентными ставками. К примеру, верхний барьер процентных ставок в Германии был отменен в 1867 г.11. Во Франции в связи с государственным определением процентов по займу резкой критике подверглось принятое в начале XIX в. законодательство, которое устанавливает максимальный размер процентов по ссудам12.
Законодательное регулирование цен на товары и услуги в XIX в. применялось в виде точечных вмешательств в экономический оборот, однако воспринималось как исключительная мера, критиковалось и применялось достаточно редко. Существующий уровень развития экономической теории доказывал негативный характер данных мер для полноценного развития экономического оборота.
В связи с этим применявшаяся доктрина laesio enormis стала терять имеющуюся популярность. Дж. Доусон отмечает, что на протяжении XVII–XVIII вв. во Франции происходил процесс ограничения доктрины laesio enormis вплоть до возвращения ее в рамки, заданные в Corpus Juris13. Жан Дома указывал, что в XVII в. не представлялось возможным применять доктрину laesio enormis ко всем двусторонним соглашениям, и допускал указание на несоразмерность цены для оспаривания сделки только в исключительных случаях, к примеру, купля-продажа недвижимости14. На отсутствие возможности использования доктрины laesio enormis в XVIII в. в случаях затруднения установления справедливой цены указывал также Р. Потье15.
Данные процессы вполне объяснимы. Развитие экономической мысли поставило под сомнение идею о наличии у экономических благ объективной внутренней ценности, которая бы не зависела от субъективных оценок конкретных участников договора. Более того, расцвет волевой теории сдерживал попытки государственного вмешательства в экономический оборот с целью обеспечения справедливости договора вразрез отраженной в соглашении воле контрагентов.
Стоит отметить, что имели место и иные преобразования в частном праве, направленные на расширение свободы договора. К примеру, право западноевропейских стран утвердило право кредитора осуществить цессию третьему лицу, что не представлялось возможным в периоды Античности и Средневековья. Как отмечает Р. Циммерман: «Законодательство стран с капиталистической экономикой больше не могло мириться с данным препятствием»16.
ЭССЕ
Таким образом, европейское частное право видоизменилось под влиянием активного развития капитализма и этики индивидуализма.
Список литературы Принцип свободы договора в период XVIII-XIX веков
- Халфина Р. О. Договор в английском гражданском праве. М., 1959.
- Angelo A. H., Ellinger E. P. Unconscionable Contracts: A Comparative Study of the Approaches in England, France, Germany and the United States // 14 International and Comparative Law Journal. 1991-1992.
- Atiyah P. S. The Rise and Fall of Freedom of Contract. 1979.
- Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D. Cases, Materials and Text on Contract Law. 2002.
- Brissaud J. History, of French Private Law. Boston, 1912.