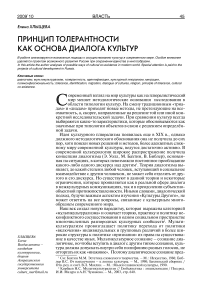Принцип толерантности как основа диалога культур
Автор: Хлыщева Елена Владиславовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
В работе анализируются возможные подходы к сосуществованию культур в современном мире. Особое внимание уделяется проектам возможного развития России при сохранении единства в многообразии.
Диалогизм, мультикультурализм, толерантность, идентификация, культурный плюрализм, миграция, поликонфессиональность
Короткий адрес: https://sciup.org/170164623
IDR: 170164623
Текст научной статьи Принцип толерантности как основа диалога культур
С овременный взгляд на мир культуры как на плюралистический мир меняет методологические основания исследования в области типологии культур. На смену традиционным «триадам» и «диадам» приходят новые методы, не претендующие на все-охватность, а, скорее, направленные на решение той или иной конкретной исследовательской задачи. При сравнении культур всегда выбираются какие-то характеристики, которые обосновываются как значимые при типологии объектов в связи с решением определённой задачи.
Идея культурного плюрализма появилась еще в ХIХ в., однако должного методологического обоснования она не получила до сих пор, хотя поиски новых решений и методов, более адекватных сложному миру современной культуры, ведутся достаточно активно. В современной культурологии широкое распространение получила концепция диалогизма (Э. Уолл, М. Бахтин, В. Библер), основанная на ситуациях, в которых невозможно постоянное преобладание какого-либо одного дискурса над другим1. Теория диалогизма выявляет, до какой степени любой человек, вступающий в социальное взаимодействие с другим человеком, не может себя отделить от другого и его дискурса. Но существуют в данной теории и некоторые ограничения, которые проявляются как в реальной сфере диалога в межкультурных коммуникациях, так и в преодолении субъектнообъектной противопоставленности. Иными словами, диалогический подход, будучи важным аспектом изучения «Культуры Другого», не может ответить на все вопросы, связанные с культурным многообразием современного мира.
ХЛЫЩЕВА Елена
Наш век создал новую парадигму, которая выражена категорией «мультикультурализма» и означает теорию, практику и политику неконфликтного сосуществования в одном социальном пространстве многочисленных разнородных культурных сообществ2. Мультикультурализм провозглашает политику перехода от политики «включения» индивидуальных и групповых различий в более широкие структуры к политике «признания» их права на существование в качестве иных. Мультикультурное сознание – сознание диалогичное, но чтобы вступить в диалог с другим типом сознания, культура должна допускать внутри себя полифонию разных голосов, не отторгать и х как «инаковое». Поэтому диалогическое сознание пред-
-
1 См: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М. : Искусство, 1986; Биб-лер В.С. От наукоучения – к логике культуры. – М., 1990; Бахтинский сборник / Отв. ред. и сост. В.Л. Махлин. – М. : Языки славянской культуры, 1990.
-
2 Кирбаев Н.С. Мультикультурализм // Глобалистика : энциклопедия / Под ред. И.И. Мазура и А.Н. Чумакова. – М., 2003, стр. 640.
полагает, что инонациональное может войти как ценностно-значимое в национальный менталитет.
В процессе культурного взаимодействия происходит осознание множественности культур, многообразия мировоззрений и возможности разных оценок одного и того же факта носителями разных культур и вероисповеданий. В антиномии «Своё/Чу-жое» сфера «Чужого» расширяется, вследствие чего «Своё» воспринимается менее масштабным и более хрупким по отношению к «Чужому». Это приводит одних носителей данной культуры к «охранитель-ству» – стремлению оградить её от угрожающе разросшегося в их сознании «Чужого», а других – к «новаторству», стремлению укрепить «Своё» за счёт привнесения в него элементов «Чужого». В обоих случаях встаёт вопрос о разграничении «Своего» и «Чужого». Но даже достижение некоторой конвенции относительно такого разграничения не устраняет ценностной несостыковки между разнонаправленными мировоззрениями «охранителей» и «новаторов».
А потому встаёт вопрос о выработке способа, способного решить проблему межкультурного, межнационального взаимодействия без силовых действий и экономических санкций. Таким на сегодняшний день видится принцип толерантности, основные положения которого были задекларированы ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г.
Следует согласиться со справедливостью многих положений данной Декларации. Действительно, эскалация нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает всем частям мира, а потому взаимопонимание необходимо находить не только на уровне политического общения, но и в обыденной жизни, формируя уважение к самобытности представителей различных культур и конфессий.
В России в 2000 г. была подписана федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе. Национальная стратегия содействия становлению гражданского общества». Программа ставит целью формирование и внедрение социальных норм толерантности, определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях социальной напряжённо- сти. Одновременно в Доктрине информационной безопасности РФ в числе главных угроз развитию российского общества называлась «неспособность современного гражданского общества России обеспечить формирование у подрастающего поколения и поддержание в обществе общественно необходимых нравственных цен-ностей»1. Однако хотя понимание такого неустойчивого положения в обществе само по себе и неплохо, но слова без дела остаются словами, пусть и очень хорошими. На «местах» для реализации данного проекта, как всегда, не хватает денег, опыта, а иногда и просто желания, а потому хорошее начинание вырождается в простые отписки.
В ходе реализации программы по формированию установок толерантного сознания основное внимание было уделено трём направлениям:
-
– организация мониторинга социальной нетерпимости и напряжённости в различных социальных группах и районах;
-
– разработка эффективных технологий формирования социальных норм толерантности;
– создание пилотных центров толерантности и социальной безопасности как опорной сети Программы.
В числе предпосылок социальной напряжённости в обществе были названы такие, как рост социального разнообразия общественной жизни и сложности процесса принятия решений о месте личности в системе социальных, религиозных, национальных, политических отношений; неопределённость ценностей и социальных установок на уровне личности и социальной группы; рост гипермобильности населения; возникновение в обществе стереотипов восприятия проявлений жестокости, этнофобии, ксенофобии как привычной социальной нормы; активное распространение манипулятивных технологий формирования установок «свои/чужие», конструирование «образа врага», использование СМИ для раздувания неприязни и т.д.2
Данные опроса показали, что наиболее высокий уровень проявления нетерпимости наблюдается в местах стихийного скопления людей: на улице, в транспорте, в местах проведения массовых зрелищ. Конкурируют с этим в проявлении нетерпи- мости средства массовой информации и даже сфера семейной жизни. Особого внимания требуют подростки, национальные меньшинства и мигранты. Интересен и тот факт, что достаточно высок (28,2%) процент подростков, относящихся индифферентно ко всем этим проблемам.
Однако решения, принятые по данному исследованию, больше похожи на общие советы и не направлены на практические задачи по устранению напряжённости, которая сложилась в обществе. Для России же, с её множеством этнонациональных и региональных культур, отношения между которыми болезненно обострились, проблема межкультурных взаимодействий очень актуальна, она не может быть удовлетворительно решена ни политическими, ни экономическими, ни силовыми методами. Речь идёт о ментальном уровне, о самосознании народов и каждой личности.
Нынешняя Россия – общество с очень непоследовательной политикой и с не менее запутанным идеологическим обоснованием этой политики. Для национальных «окраин» и этнических меньшинств на территории РФ свойственно включение в политические требования национальных лозунгов. Говорить о монокультурном идеале Российского государства невозможно – это противоречит действительности. Нельзя сбрасывать со счетов и потоки трудовой миграции, которая приводит к смешению населения.
Не будет страна и полностью православной в силу существующей веками мультиконфессиональности российского общества. Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что Россия, как и большинство стран Западной Европы, является глубоко секуляризированным обществом. В самом православии мало развита социальная этика, а основной принцип социальной доктрины православия – «симфония» – предполагает, что государство и церковь вступают в отношения сотрудничества на тех условиях, что государство не вмешивается во внутреннюю жизнь церкви (прежде всего, в вопросы вероучения), а церковь не контролирует светскую жизнь государства. Иными словами, и церковь, и государство сами определяют цели своей деятельности и при необходимости помогают друг другу в их достижении1. Можно даже говорить о маргинальном положении православной церкви, которая только последние несколько лет сближается с государством, становясь практически «поставщиком государственной идеологии»2. Однако, несмотря на повышение статуса церкви в обществе, влияние еёна общество нельзя назвать всеобъемлющим. Растущий догматизм православной церкви и нежелание отвечать на вызовы современности часто заставляют индивидов искать ответы на свои религиозные запросы в неконвенциональных верованиях, а зачастую и в экзотических культах. На сегодняшний день можно говорить о всплеске интереса к шаманским практикам, западному молодёжному движению «New Age» и т.д. Нельзя сбрасывать со счетов и набирающий силу ислам. Всё это делает реализацию концепции русского национального государства маловероятной, а главное, малопродуктивной.
Не продуктивны и локальные этнократии, стремящиеся утвердиться в некоторых автономиях. Идеал этнокультурной однородности недостижим по чисто демографическим причинам, так как даже в национально-территориальных объединениях титульные этнические группы чаще всего составляют менее половины населения. А кроме того, такой вариант не выгоден с точки зрения экономического развития, так как приведёт к оттоку квалифицированной рабочей силы. Немаловажно и то, что именно из этих регионов мигрирует значительная часть населения в поисках более приемлемых условий для жизни, а их живущие в «русских» землях сородичи не слишком желают возвращаться в «свою» республику.
Миграция в Россию исчисляется сегодня сотнями тысяч, и многие приезжающие не склонны рассматривать Россию как временное пристанище. Этот процесс будет продолжаться, и нет никакого сомнения, что под его влиянием культурная разнородность российского населения будет только возрастать. В такой ситуации держаться за монокультурный идеал, «а именно за образ России как русско-православной страны, означало бы проявлять чудовищную глухоту к реальности»3.
Конечно, сосуществование множества культур в рамках единого Основного закона не может протекать совсем бесконфликтно. Поэтому в России неизбежны поиски этнокультурного, межнационального компромисса, основу которого как раз и может составить государственная идея. Отечественными этнологами, философами, социологами (В. Тишков, Г. Гусейнов, В. Малахов и др.) предлагается путь сознательного перехода к новой доктрине национальной солидарности, связанной с созданием российской нации на основе двойной (традиционно культурной) и гражданской идентичности. При этом понятие «русская нация» уже не будет иметь этнического значения (как не имеет этого значения «американская нация», «британская нация» и т.д.).
Общероссийская идентичность – это не только проект, но отчасти уже и реальность. В России всегда существовала двойная идентичность – культурно-этническая и политическая (гражданская). На базе общекультурных традиций в стране уже давно сложилась общероссийская гражданская идентичность – и не только у русских, но и у всех народов, проживающих на территории России, в пределах своих территориальных образований, вне них или вовсе их не имеющих. И тем не менее, данный проект на государственном уровне ещё долго будет оставаться всего лишь мечтой-идеалом.
В действительности культурные идентификации современных индивидов гораздо сложнее. Самоидентификация человека с определённой территорией – этнической и политической – всегда имеет иерархический характер. Обычно человек ощущает себя одновременно жителем своей страны, одного из её регионов и конкретного населённого пункта. Некоторые идентичности могут определённое время быть не проявленными и активизироваться лишь при определённых обстоятельствах (например, при возникновении угрозы данной группе). Когда региональная идентичность оказывается сильнее национальной, возникает опасность распада государства (как в случае с бывшим СССР).
Международная миграция ведёт к увеличению доли смешанных браков и числа людей с двойной (или множественной) идентичностью. Какое-то время разные идентичности могут мирно сосуществовать в сознании человека, но может наступить и момент нелёгкого выбора, становясь причиной кризиса самоидентичности.
Увеличение этнокультурной разнородности – явление, общее для многих стран. И необходимо точно знать, где тот «порог терпимости», за которым начинается процесс дестабилизации, и как его сохранить. Мультикультурализм как теоретический конструкт не может быть реализован в полной мере на практике в силу противоречия с основной идеологией Запада – индивидуализмом. Провозглашением равенства и значимости культур предлагается паритетное сосуществование. Принцип конкуренции – основа основ западной цивилизации – не может позволить такое равнозначие. Тем более что этнические культуры не могут тягаться с национальными образованиями, которые, впрочем, также состоят из отдельных этносов, но слитых по определённым причинам воедино. Одни сообщества малы как по численности, так и по уровню своего развития; другие занимают громадную территорию и представляют конгломерат народностей, связанных единой целью сосуществования в данном пространстве.
Конечно, несправедливо было бы говорить, что в российском обществе совсем отсутствуют общие идеалы, каковыми являются базовые ценности: дети, семья, убеждения о торжестве добра над злом, красоты над безобразным и т.д. Эти ценности являются константами, основными кодами, на основе которых и выстраивается общение между людьми в данной культуре и между людьми разных культур и вероисповеданий. А потому необходимо воспитывать уважение и понимание богатого многообразия культур нашего мира, при констатации мирового единства человечества, помня, что «Великое Единство» заключается в «Многообразии».
Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» по проекту «Создание системы разрешения этнополитических конфликтов и формирования культуры политической толерантности в стратегически важном полиэтничном пространстве Южного федерального округа»).