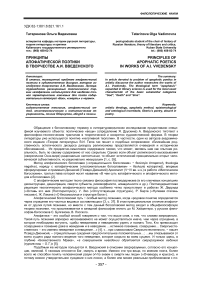Принципы апофатической поэтики в творчестве А. И. Введенского
Автор: Татаринова Ольга Вадимовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 7, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье, посвященной проблеме апофатической поэтики в художественном дискурсе, автором исследуется творчество А.И. Введенского. Литературоведчески расширенный теологический термин «апофатика» используется для наиболее точной характеристики ключевых для поэта содержательных категорий «Бог», «смерть» и «время».
Художественная теология, апофатический метод, эпистемологическая и онтологическая неуверенность, поэзия обэриутов, абсурд в поэзии
Короткий адрес: https://sciup.org/14933577
IDR: 14933577 | УДК: 82-1:801.6:821.161.1
Текст научной статьи Принципы апофатической поэтики в творчестве А. И. Введенского
The summary: In article devoted to problem of apophatic poetics in artistic discourse the author researches the works of A.I. Vvedensky. The theological term “apophasis” expanded in literary science is used for the most exact characteristic of the basic substantial categories “God”, “death” and “time”.
Обращение к богословскому термину в литературоведческом исследовании продиктовано спецификой изучаемого объекта: поэтические «вещи» (определение Я. Друскина) А. Введенского тяготеют к философско-теологическим трактатам в теоретической и конкретно художественной формах. В теории литературы уже используется понятие «негативной теологии». В частности, один из авторов академического издания «Теории литературы» В.И. Тюпа так пишет о подобных сопряжениях: «Ближайшая родственность эстетического дискурса дискурсу религиозному представляется очевидной и исторически обоснованной… Их предметно-смысловое содержание таково, что может, являясь нам как опытная реальность, быть по своему содержанию от нас сокрытым. Однако если объект религиозного высказывания (сверхличное Он-в-мире) рационально непостижим , то объект эстетический принципиально открыт человеческой субъективности, но рационально невыразим » [1, с. 35].
Метод апофатического богословия («отрицательного богословия» - θεολογία άποφατική, theologia negativa), наряду с катафатическим («положительным богословием» - θεολογία καταφατική), впервые сформулировал и применил Дионисий (Псевдо-Дионисий) Ареопагит (V-VI вв. н.э.) в работе «Мистическое богословие», третья глава которой носит название «В чем суть катафатического и апофатического методов в богословии» [2].
С апофатическим методом тесно связана философия постмодернизма (в его ключевых концепциях деконструкции, децентрации, смерти субъекта, ризоморфности, номадичности и др.). Постмодернистская рецепция теологического апофатического метода особенно четко присутствует в работах Ж. Деррида («Оставь это имя (Постскриптум)»), У. Эко («Отсутствующая структура»), Р. Барта («Нулевая степень письма»), Ж. Лакана («О бессмыслице и структуре Бога»).
Апофатический богословский путь - особый метод познания, когда «родовое понятие определяется через отрицание его частных видовых составляющих» [3, с. 37]. В этом принципиальное отличие апофати-ки от других путей познания, но вместе с тем данный богословский метод входит в общефилософскую теорию познания, что прослеживается в западной философии вплоть до М. Хайдеггера, у русских философов-богословов С. Булгакова, В. Лосского.
Апофатика – это особый способ говорения о том, что выше слов, о том, что словам запредельно. Такой путь познания априорно непознаваемого не может осуществляться иначе, чем через отрицание, в которое необходимо вступить, «дабы неведением и невидением узреть и познать Того, Кто превосходит созерцание и познание даже в невидении и в неведении. …истинное познание, созерцание… Сверхъестественного – это именно неведение и невидение…» [4]. «…при славословии Сверхъестественного, - пишет Псевдо-Дионисий, - отрицательные суждения предпочтительнее положительных…; …мы отказываемся от всего сущего ради полного ведения того неведения, которое сокрыто во всем сущем». И только здесь, в глубине «Божественного Мрака», « в совершенном неведении обретается сверхразумное ведение (курсив наш – О.Т. )» [5].
Подобным же методом пользуется А. Введенский в описании сверхразумных, согласно его концепции, явлений. К таковым относятся Бог, смерть и время. Именно эти три вещи, по мнению поэта, более всего не способен понять человеческий разум («Что знаем о смерти мы люди» («Очевидец и крыса»)), и потому всякое утвердительное суждение о них ложно, а более или менее реальным приближением к по- стижению истинной их сути может быть разрушение чувственно постижимых их образов: «…всякий человек, который хоть сколько-нибудь не понял (курсив наш – О.Т.) время, а только не понявший хотя бы немного понял его, должен перестать понимать и все существующее», - читаем в «Серой тетради» А. Введенского [6, с. 175]. Таким образом, невыразимое может быть выражено в молчании нуля (ср. у ПсевдоДионисия: «полное неведение и есть познание Того, Кто превосходит все познаваемое»). И потому мы наблюдаем в стихах Введенского разрушение времени; комическое снижение высоко трагедийного значения смерти; инверсию верха и низа внутри пространства сакральных образов (святой, рай, Бог). Апофати-зации, или познавательному отрицанию, подвергаются все проявленные формы времени, обыденные представления о смерти и Боге. Бог (означающее, не соотносимое с трансцендентным означаемым в мире Введенского) «там» (в раю) оказывается «без очей без рук без ног» (стихотворение «Снег лежит») -образ, отвечающий модели негативной антропологии Введенского, а также служащий принципиальным отказом от человеческого стремления уподобить божественное человеческому, сделать ноуменальное явленным в мире феноменов, упростить непознаваемое до формы, доступной земному разуму. А потому «остановка мира, конец времени – не цель, а точка отсчета поэтики Введенского» [7, с. 251].
Логос Введенского (Логос и логичность – два разных понятия) кроется в тотальном образе непонимания, отрицания представления о том, что разум способен что-либо по-настоящему постичь. Поэту свойственна «дискредитация самой категории понимания… - путем логически несостоятельного, тавтологически бессмысленного ответа на вопрос, относящийся к запредельной категории», - пишет М. Мейлах в Примечаниях к Собранию сочинений А.И. Введенского [8, с. 250]. Всякие попытки человеческого разума объяснить одну из запредельных категорий (смерть, время, Бог) приводят к абсурдным построениям в поэзии Введенского, намеренно сниженным рифмам (особенно частотны рифмы на -ец), часто имеющим раешное происхождение: «…едва ли только что поймешь. / Смерть это смерти еж» (Кругом возможно Бог); «…конец… свинец» (Кругом возможно Бог); «…конец… бубенец…» (Значенье моря); «…томился в клетке Бог / без очей без рук без ног» (Снег лежит); «и в челнах и там и тут / видны венчики минут » (Значенье моря).
Отрицается познавательная способность в принципе, возникает эпистемологическая, пространственная, онтологическая неуверенность личности, создающая страшную четырехступенчатую апофати-зацию уверенности в чем-либо, включая уверенность в статусе собственной бытийности: «Мы не верим, что мы спим. / Мы не верим, что мы здесь. / Мы не верим, что грустим, / Мы не верим, что мы есть» [9, с. 199]. Не остается уверенности даже в апофатическом молчании: «Мы не верим, что мы дышим / …Мы не верим, что молчим» [10, с. 206].
Происходит своего рода «эсхатологический эффект», когда ничего не осталось – «ни мира, ни человека и его жизни, ни истории». Это побуждает к игре, которая есть «аффективная реакция на «ничто»: в этом «ничто» с остановленным хроносом и полым пространством следует найти «нечто», что все еще можно длить» [11, с. 251].
Образами всевозможного неведения изобилуют тексты Введенского, организуя собой апофатиче-скую концепцию непознаваемости мира , его непостижимости, а также инвариантную проблему понимания / непонимания, один из подвидов которой – попытка что-либо постичь с безуспешным результатом («Я больше ничего не понимаю» («Куприянов и Наташа»); «разум не понимает мира»; «я не могу постичь… я одного не понимаю…» («Серая тетрадь»), «неясно мне… не понимаю слова много / не понимаю вещи нуль…» («Потец»); «ты огонь владыка свечки / что ты значишь или нет» («Значенье моря»)).
Таким образом, согласно апофатическому методу, человеку, чтобы встретиться со временем и Богом как таковыми, необходима «ночь ума» («Серая тетрадь») – апофатическое непонимание, отказ от выражения непознаваемого. Такой отказ от понимания является, по определению Я. Друскина, приемом «онтологического познания», «гносеологическим приемом». «Гносеологически – бессмыслица как прием познания жизни и мира осуществляется поэтически, и как результат – изображение сущности жизни» [12, т. 1, с. 50]. Человек, обнаженный непониманием, поставляет себя пред Богом: «…раньше должно быть полное непонимание, я должен остаться один: я и Бог… И тогда я вижу жизнь. Не ту сетку отношений и категорий, которую накладывает на нее разум, но действительную жизнь, смерть и Бога – тайну» [13, с. 64].
Категория непонимания; Смерть, Время и Бог как непознаваемое - это апофатика Введенского. В непонимании Я находит глубинного себя; в невозможности определить, кто есть Бог и что есть время, и есть Бог и время как таковые.
Ссылки:
-
1. Тюпа В.И. Аналитика художественного (введение в литературоведческий анализ). М., 2001.
-
2. Дионисий (Псевдо-Дионисий) Ареопагит. Мистическое богословие / пер. Л. Лутковского. URL: // http://vehi.net/areopagit/mistich.html (дата обращения: 10.09.2010).
-
3. Блинова М.П. Мортальный сюжет в нравственнофилософском пространстве малой постмодернистской прозы (Русский и зарубежный опыт): дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 2004.
-
4. Дионисий (Псевдо-Дионисий) Ареопагит. Указ. соч.
-
5. Там же.
-
6. Введенский А.И. Все. М., 2011.
-
7. Чухров К. Некоторые позиции поэтики Александра Введенского // НЛО. 2011. № 108. С. 249-257.
Список литературы Принципы апофатической поэтики в творчестве А. И. Введенского
- Тюпа В.И. Аналитика художественного (введение в литературоведческий анализ). М., 2001.
- Дионисий (Псевдо-Дионисий) Ареопагит. Мистическое богословие/пер. Л. Лутковского. URL://http://vehi.net/areopagit/mistich.html> (дата обращения: 10.09.2010).
- Блинова М.П. Мортальный сюжет в нравственно-философском пространстве малой постмодернистской прозы (Русский и зарубежный опыт): дис.... канд. филол. наук. Краснодар, 2004.
- Введенский А. И. Все. М., 2011.
- Чухров К. Некоторые позиции поэтики Александра Введенского//НЛО. 2011. № 108. С. 249-257.
- Введенский А.И. Полное собрание произведений: в 2 тт./сост. М. Мейлаха и В. Эрля. М., 1993.
- Друскин Я. Стадии понимания/«…Сборище друзей, оставленных судьбою»: в 2 т. М., 2000.