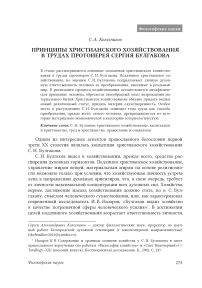Принципы христианского хозяйствования в трудах протоиерея Сергия Булгакова
Автор: Колесников Сергей Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 4 (75), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные положения христианского хозяйствования в трудах протоиерея С. Н. Булгакова. Подлинное христианское хозяйствование, по мнению С. Н. Булгакова, подразумевает личную духовную ответственность человека за преобразования, вносимые в реальный мир. В реализации процесса хозяйствования осуществляется метафизическое призвание человека, обретается своеобразный опыт возрождения материального бытия. Христианское хозяйствование обязано придать вещам новый религиозный статус, придать материи одухотворенность. Особое место в рассуждениях С. Н. Булгакова занимает тема труда как способа преображения, прежде всего, самого человека, превращающегося из категории материально-экономической в категорию сотериологическую
С. н. булгаков, христианское хозяйствование, капитализм и христианство, труд и христианство, православие и социализм
Короткий адрес: https://sciup.org/140223437
IDR: 140223437
Текст научной статьи Принципы христианского хозяйствования в трудах протоиерея Сергия Булгакова
и именно «христианство серьезно и строго относится к хозяйственным обязанностям человека»2, как писал сам о. С. Булгаков в статье «Православие и социализм».
Степень этой ответственности, рассматриваемой в христианском контексте, неуклонно повышается, т. к. она подразумевает не только и не столько бухгалтерский, налоговый и тому подобный «человеческий» аудит, а ответственность метафизического масштаба. «Хозяйство, — по определению о. С. Булгакова, — есть выражение борьбы двух метафизических начал жизни и смерти»3. Именно на пространствах хозяйствования и осуществляется то религиозно осмысленное противостояние, в котором неминуемо обязан принять участие человек. И для того, чтобы занять точно предназначенное место в этой брани, необходимо усвоить теологическое понимание хозяйствования. «Хозяйство есть борьба со смертоносными силами князя мира сего»4, — утверждает православный богослов, и в этой пронизанной христианским мировосприятием интуиции, своеобразном теологумене, содержится важнейшая посылка всех концептуальных построений о. С. Булгакова.
Восприятие хозяйствования как метафизической борьбы, только борьбы не на смерть, а за жизнь — важнейший христианский постулат, переносимый в сферу материального. Оно превращается в интерпретации о. С. Булгакова в религиозное действо, придающее материалистическому миру духовное оживление. «Содержание хозяйственного процесса можно еще выразить и так: в нем выражается стремление превратить мертвую материю, действующую с механическою необходимостью, в живое тело, с его органическою целесообразностью»5, — пишет о. С. Булгаков. Хозяйствование, направленное к духовным ориентирам, ведет мир к возрождению, с одной стороны, и к появлению человека возрождающего-хозяйствующего, с другой. В духовном хозяйствовании кардинально изменяется роль человека: он становится проводником энергии возрождения, увеличивает «количества» жизни в материальном мире. Подлинно духовное хозяйствование ставит во всей полноте абсолютно новую задачу перед человеком и человечеством, вне формата политического или экономического: научиться возрождать, здесь и сейчас, в рамках земной жизни, чтобы возродиться самому за ее пределами.
Хозяйствование превращается в процесс расширения прав жизни в рамках материального, т. е. мертвого, мира: «Борьба эта за расширение жизни и свободы на счет необходимости, в которой жизнь превращает отвоевываемые куски механизма в члены организма и расплавляет холодный металл вещности в огне жизни, принимает разные формы, она ведется с примитивными инструментами и во всеоружии знания, но содержание ее остается одно и то же: защита жизни и ее расширение путем превращения механизма в организм»6. Христианское хозяйствование способно придать вещи новый статус, придать материи одухотворенность. Если вещь — это забывшая свое имя материя, то призвание теологии — напомнить об этом имени самой вещи, и единственным средством, по о. С. Булгакову, осуществить это возвращение, является именно духовно ориентированное хозяйствование. Вернуть вещи духовную память, через нее одухотворить материю, тем самым, приблизив Царство Божие, — тот вектор, по которому развивается философия хозяйства о. С. Булгакова.
При этом религиозный смысл хозяйствования придает человеческому существованию особое значение: это и есть реализация права, позволенного Богом человеку, давать имена существам и предметам. Именно человек через духовно понимаемое хозяйствование придает миру сакральное звучание: «…хозяйство есть борьба человечества со стихийными силами природы в целях защиты и расширения жизни, покорения и очеловечения природы, превращения ее в потенциальный человеческий организм»7. И только появление, рождение-возрождение, «природы» как живого существа может привести природу, обретающую через человеческое хозяйствование имя-лик, к спасению в христианском понимании.
Духовные цели хозяйствования для о. С. Булгакова очевидны: «Хозяйство должно сохранять значение средства для достойной жизни, причем подлинным критерием здесь является религиозный ее идеал. Этим идеалом и связанным с ним аскетическим саморегулированием хозяйства определяется его дух, который, не будучи приурочен к определенным формам, изнутри их собой определяет»8. Вопрос оформления хозяйства, тот самый вопрос о политических и экономических формах его воплощения в реальную жизнь, не столь существенен. Гораздо важнее внутренний смысл хозяйствования: «В хозяйстве заключается свой положительный, Богом вложенный установленный смысл, — очеловечение самого человека через очеловечение природы, участие человека в делах Божиих, в преображении мира»9. Однако и вопрос оформления хозяйствования не оставлен о. С. Булгаковым без пристального внимания.
Формы хозяйствования для о. С. Булгакова поистине безграничны: туда входит как физический труд, так и интеллектуально-духовный, причем, приоритетность в определенной степени отдана именно второй форме хозяйственного преобразования мира. Наука — тоже форма хозяйствования. «Наука есть общественный трудовой процесс, направленный к производству идеальных ценностей — знаний, по разным причинам нужных или полезных для человека»10.
Из подобного понимания науки следует ее хозяйственная суть, хозяйствующий алгоритм, выводящий деятельность человека на новый уровень преображения реальности. Хозяйственный процесс уподоблен о. С. Булгаковым процессу познавательному, раскрытия многообразия мира. «Хозяйство, — пишет о. С. Булгаков, — есть процесс знания, сделавшийся чувственно-осязательным, выведенный наружу, а познание есть тот же процесс, но в идеальной, нечувственной форме»11.
Уподобление хозяйства познанию и наоборот — важный аспект всей концепции хозяйствования о. С. Булгакова. Хозяйствование как форма познания — таков особый формат взаимоотношений человека и мира. Отсюда и происходит обретение того самого единства, которое определяет подлинную теологичность. У самого о. С. Булгакова это звучит так: «Хозяйство, как постоянное моделирование или проектирование действительности, а вместе и объективирование своих идей, есть реальный мост из я в не-я, из субъекта в объект, их живое и непосредственное единство, которое не нужно уже доказывать, напротив, оно само должно, в качестве непосредственнейшего показания нашего хозяйственного опыта, лечь в основу дальнейших построений»12.
Хозяйствование у о. С. Булгакова приобретает религиозно-онтологическое звучание, причем в эту тональность вплетается христиански осмысленный историзм. Оно предстает как форма исторического познания мира, а, следовательно, его преобразования. На самой ранней стадии религиозного осмысления мира, на магической ступени, уверен протоиерей С. Булгаков, возникает и форма хозяйствования: «…магиче-ское отношение к миру предполагает не только стремление овладеть им, но и его противодействие, не только мощь, но и пленение. Иначе говоря, магизм уже подразумевает возникновение хозяйственного отношения к миру, — человеческую актуальность, проявляющуюся в умственном, волевом и телесном усилии, или в труде, и предполагающую наличность потребности, или хозяйственной нужды»13. Религиозная и хозяйственная сферы сливаются и образуют единый историко-метафизический процесс становления человечества в направлении духовных ориентиров.
Неслучайно хозяйствование как форма преображения мира предстает у о. С. Булгакова в качестве эпохального события наравне с религиозностью. Для него хозяйствование становится практически тем же, что у К. Ясперса обозначено как «осевое время», как религиозное «событие», изменяющее вектор и темп развития истории. Но если К. Ясперс анализирует этапы истории человечества, то взгляд о. С. Булгакова масштабнее.
Он переносит свое понимание хозяйствования в «до-человеческую» стадию: « Эпоха хозяйства есть столь же характерная и определенная эпоха в истории земли, а чрез нее и в истории космоса, что можно с этой точки зрения всю космогонию поделить на два периода: инстинктивный, до-сознательный или до-хозяйственный, — до появления человека, и сознательный, хозяйственный, — после его появления»14. «Осевое время» хозяйствования для о. С. Булгакова — начальная точка отсчета духовного становления человечества.
И если с хозяйствования начинается, по Булгакову, история человечества, то именно хозяйствование способно привести человечества к чаемой цели: «Победа хозяйства выражается в космической победе красоты»15. Метафизический оптимизм о. С. Булгакова — та черта, которая присуща подлинной христианской теологии: уверенность в пришествии Царства Божия. Но путь, по которому оно придет, по мнению о. С. Булгакова, лежит в сфере хозяйствования, «обреченного» в своем развитии достигнуть успеха в духовном миропреобразовании: «Бог создал мир наверняка, с безошибочной верностью, а не гадательною только возможностью успеха или неуспеха, иначе бессильным и несовершенным оказался бы его Создатель, потому что в таком случае открылось бы нечто новое и неожиданное для Него самого, чего Он не мог предвидеть»16. Человечество, осуществляя свое хозяйственное подвижничество и следуя установленному порядку небесной гармонии, не смотря на трагические перипетии и катаклизмы истории, считал о. С. Булгаков, потенциально способно выйти к оптимистическим горизонтам духовного преображения мира.
Но православного богослова интересует не только судьба человечества, но и линия судьбы отдельной личности. В христианской теологии существует мощная антропологическая традиция, восходящая к наследию святых отцов, и ее органично продолжает в своих хозяйственных теологуменах о. С. Булгаков.
Он настаивает на том, что индивидуализм, столь часто присутствующий в рассуждениях о современных формах хозяйствования, неуместен; «хозяйствует, — пишет о. С. Булгаков, — не индивид, но все человечество, причем отдельные усилия и достижения слагаются в общий итог человеческого овладения природой»17. При этом именно хозяйствование формирует человека как типичного представителя той или иной исторической фазы развития человечества: «Каждая хозяйственная эпоха имеет своего собственного economic man. Он представляет собой… конкретный духовный тип со всей сложностью и многообразием психологической мотивации… существует и христианский economic man»18. Однако за этой типизацией, как мы уже говорили выше, для о. С. Булгакова не утрачивает ценность отдельная, конкретная личность.
И опять-таки именно через хозяйствование личность обретает свою индивидуальную ценность, но только в том случае, если формирует «отношение человека к природе как к саду Божьему»19. Мало того, сам человек должен стать, по выражению блаженного Августина «сам для себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота», объектом преобразующего хозяйствования, перенести навыки хозяйствования, обретенные в процессе преобразования материи на преображение собственного духа.
Процесс этого человекопреображения, своеобразного обожения как главной задачи христианина, имеет, по мнению о. С. Булгакова, стадиальный характер. Он разделяет человека на «внешнего» и «внутреннего», и в этих сферах процессы преображения идут достаточно разными путями.
Человек «внешний» может быть преобразован в соответствии с «коренными хозяйственными реформами, призванными устранить великую, вопиющую неправду нашей теперешней жизни, идеалы социализма, уничтожение классового господства и антагонического характера хозяйства», которые и приведут к реформированию «внешнего» человека. Но это еще «не является необходимой реформой внутреннего человека; равномерная сытость сама по себе не есть специфическое противостояние против духовного мещанства (хотя, говоря это, мы нисколько не думаем умалять значение экономической проблемы и борьбы с бедностью)» («Душевная драма Герцена»)20. Перед подлинно христианским хозяйствованием стоит задача преображения именно «внутреннего» человека — прямая отсылка к антропологии святоотеческого наследия, тех же отцов-капподакийцев, — и этот «внутренний» человек как раз и представлен у о. С. Булгакова как конкретное духовное содержание личности.
Показательно, что в работах протоиерея С. Булгакова мы можем, хотя бы частично, увидеть его собственного «внутреннего» человека, явленного в личных рассуждениях, мемуарных и автобиографических зарисовках. Богослов — и это тоже урок для современной теологии, — не только теоретизирует над проблемами той же антропологии, он действенно стремится применять их на самом себе. Если медики самоотверженно экспериментируют со своим телом, апробируя новые методики преодоления телесных болезней, то теолог стремится излечить свой собственный дух, «прививая» христианское мировидение. Потому-то занятия теологией во все времена являлось весьма специфической профессионально-конфессиональной деятельностью, где объектом профессионального воздействия становится собственный внутренний мир теолога-профессионала.
На своем примере о. С. Булгаков показывает процесс преображения своего «внутреннего» человека — начиная с детского периода до самых зрелых лет. Причем о своих биографических вехах он говорит, в том числе, и с позиций «хозяйствующего субъекта», отмечая хозяйствование как важное условие формирования личности в ее биографическом развитии.
Так, вспоминая о своем детстве, он акцентирует отсутствие в его первых годах жизни опыта сельскохозяйственного мировосприятия, отсутствие ритма хозяйственной жизни: «…никогда не переживали сельскохозяйственного года, уборки урожая, ничего, ничего. … мы никогда не живали в деревне»21. Само биографическое становление о. С. Булгакова предстает как постижение глубины и значимости хозяйственного отношения к материи. Несомненно, его личный опыт хозяйствования — достаточно абстрактный опыт, умозрительный, не погруженный в действительно тяжелый, материально определяемый труд.
Свой духовно-биографический путь о. С. Булгаков и воспринимает как способ хозяйствования, раскрывающий его как человека и как теолога. Богословские изыскания он, в определенной степени, рассматривает как форму хозяйствования, как преображение косной материи слова, — потому не случайным является его обращение к теме «Философия имени», имени как самого духовно наполненного для человека слова, — и в этом стремлении, возможно, русский богослов выходит за пределы привычного в переосмыслении границ хозяйствования.
Личная биография как хозяйственная деятельность — это занимает достаточно серьезное место в теологии протоиерея С. Булгакова, и, может быть, слишком большое. Поэтому становились возможными, и в определенной степени оправданными, критические замечания в адрес о. С. Булгакова о том, что он чрезмерно антропологичен в своих богословско-экономических размышлениях. Так, И. Цинговатов, рецензируя в 1912 г. «Философию хозяйства», писал: «Человек, для которого писание есть такое же космическое событие, как геологические и астрономические катастрофы, — утратил всякое ощущение земной перспек-тивы»22. Но метафорический отрыв человека от земли в теологическом аспекте означал приближение к небесам, и, видимо, этим обстоятельством можно оправдать некую абстрактность и умозрительность хозяйственно-экономических размышлений о. С. Булгакова.
Однако специфической чертой богословия о. Сергия является личностный акцент на заявленных антропологических проблемах. Человек и богослов в Булгакове — объединены, волнующие человека-Булгакова проблемы животрепещущи для Булгакова-теолога. Показательна в этом отношении эмоциональная окраска его теологии, привнесение в надземную позицию богослова экзистенциальных переживаний личности.
Приведем развернутый тезис С. С. Аверинцева об эмоциональной стороне теологических построений о. С. Булгакова: «Как известно, Булгаков вообще — автор чрезвычайно эмоциональный; степень эмфазы, с которой он говорит, скажем, о собственных слезах и даже рыданиях горя или восторга, и о других проявлениях чувств, настолько велика, что у автора не такого искреннего, и в определенном смысле более наивного, чем он, могла бы вызывать нарекания за аффектацию. Нет сомнения, что топика слез вообще присуща вскормившей его позднеромантической, alias символистской культурной формации; впрочем, даже у авторов, в отличие от Булгакова менее всего человечески простодушных, нет оснований видеть в определенного рода выражениях — “… И слезы лил невольные из глаз ”, как у Вяч. Иванова, — непременно литературную фикцию. Культурная история слез respective бесслезности еще не написана, а жаль; вспомним, как часто в самых трезвых бытописательских текстах XIX столетия упоминаются слезы на глазах прихожан за богослужением, например, во время проповеди, и как трудно нам представить себе это сегодня при самом серьезном настроении прихода, а особенно в применении к тогдашней ситуации, когда, казалось бы, “практикующая” церковная религиозность принадлежала к само собой разумеющейся повседневности»23.
Заключает С. С. Аверинцев свое рассуждение утверждением, что авторская позиция о. С. Булгакова «выделяется своей экспрессивностью…», и экспрессивность эта идет от глубоко сочувственного понимания антропологических проблем, пропущенных через собственное миропере-живание. Ранимость и раненность временем, личная боль за происходящее с миром и в мире — вот причина включенности в богословские «штудии», казалось бы, неуместных эмоциональности и экспрессивности. Отсюда возникает слишком человеческое отношение к истине, в котором много от «духа мировоззренческого “пари” в паскалевском смысле» (С. С. Аверинцев), отсюда его столь близкое принятие человеческой и мировой неустроенности, отсюда обращенность его богословия к специфически человеческой т еме — к проблеме счастья.
Что собой представляет человек счастливый — важный и неожиданный поворот в хозяйственно-теологических конструкциях о. С. Булгакова. В рассуждениях на эту тематику он завуалировано дискутирует со сторонниками тезиса о возможности достижения запланированного счастья, высчитанного счастья с помощью экономико-политических технологий.
В работе «Основные проблемы теории прогресса» о. Сергий писал: «Я думаю, вообще, что вéдение всех будущих событий принесло бы не счастие, а несчастие для человека, ибо сделало бы для него неинтересной, обезвкушенной жизнь и особенно будущее, которое теперь невозбранно может заполнять фантазия. Едва ли каждый из нас почувствовал бы себя осчастливленным, если бы ему была во всех подробностях раскрыта его будущая жизнь по день смерти включительно, напротив, я думаю, большее несчастие трудно себе представить. Всеведение не под силу человеку»24.
Здесь взаимно переплетены две линии: проблема счастья и пределы знания человеческого. Мотивы Экклезиаста, явно звучащие сквозь интеллектуальную аранжировку, сополагающие уровень знания и степень осчастливленности, — усиливаются положительным отношением к фантазии как способу расширения творческих способностей человека. И этот сложный симбиоз — знания, счастья, фантазии, творчества — совмещается для о. С. Булгакова в определение «хозяйствование». Только при таком многомерном подходе становится оправданным стремление человека к состоянию счастья. В противном случае оно грозит обернуться эвдемонизмом, причем с акцентом на последнем, демоническом, аспекте.
Определение меры счастья — самое слабое звено, считал протоиерей Сергий Булгаков, в концептуальных построениях «прогрессистских» теорий. Личность, человек не вписывается в прокрустово ложе рационально-прогрессистских стратегий, человек, по христианской традиции, носитель таинства, а потому исчислен «до последних глубин» быть не может. Так же не может быть определено и конкретное «количество» счастья, необходимое каждому человеку, а не схематическому классу, социальной группе и т. п. «Точка зрения как социального, так и индивидуального эвдемонизма, — пишет о. С. Булгаков в «Основных проблемах теории прогресса», — является этически самой грубой и неспособна ответить запросам мало-мальски развитого сознания. Она основывается, между прочим, на предположении, что может быть найден эвдемониче-ский масштаб и что общее количество удовольствия и неудовольствия в мире может быть точно определено, причем нужно стремиться к тому, чтобы в окончательном итоге плюс превышал минус и все увеличивался на счет минуса до полного исчезновения этого последнего»25.
Отсюда следует, что цель хозяйствования — далеко не достижение некоего усредненного «счастья», объясняемое «невозможностью найти единицу для измерения радости и горя, ибо мы в каждом из этих состояний имеем нечто индивидуальное, определенное не количественно, а качественно, так что масштаб измерения временем или числом здесь неприменим». «Бухгалтерия» счастья всегда будет страдать неполнотой, и если не учитывать это в желании навязать прогресс как нечто среднестатистическое, утрата подлинного значения человека неизбежна.
Движение хозяйственной деятельности по вехам, заданным христианством, неуклонно ведет к раскрытию потаенного значения человека, и только это движение может рассматриваться как ведущее к подлинному развитию человека, общества или мира. В следовании по указанному направлению и реализуется тот порыв к счастью, заложенный в человеке: «Человек есть не только познавательный, но и хозяйственный логос мира, господин творения. Ему принадлежит право и обязанность труда в мире, как для собственного существования… так и для осуществления общего дела человеческого на земле, во исполнение заповеди Божьей»26.
Хозяйственно-логосная деятельность только и может восприниматься как истинное преображение мира, а не как сведение его к схематизму исчисляемой виртуальности. Человек должен стать проводником лого-сности в материю, преобразить материю в духе софийности. Определяя сферу деятельности и смысл существования человека, о. С. Булгаков писал: «Остальные области человеческого потребления относятся к тому же очеоловечиванию вещества, к расширению органов человеческого тела за его естественные пределы и, в известном смысле, к превращению мировых веществ в потенциальное чувствилище, общечеловеческое тело»27, и в этом понимании метафизической роли человека предстает доминанта его антропологии.
Кроме этого, о. С. Булгаков предлагает интересный ход рассуждений о том, каким должен стать мир, входящий в самого человека, в частности, в виде пищи. Добывание и поглощение пищи как один из результатов, — а возможно, и главнейший результат — хозяйственного процесса, в интерпретации о. Сергия Булгакова обретает сакральный контекст, превращаясь из животно-физиологической потребности в духовно ориентированный акт.
«Вкусите и видите, яко благ Господь!» (Пс. 33:9), — восклицает Священное Писание. И такое духовное понимание пищи как усвоения и своеобразного преображения мира создает интересный теологумен в богословии о. С. Булгакова. В развернутой форме он выглядит следующим образом: «Мы едим мир, приобщаемся плоти мира не только устами или органами пищеварения, не только легкими и кожей в процессе дыхания, но и в процессе зрения, обоняния, слуха, осязания, общего мускульного чувства. Мир входит в нас чрез все окна и двери наших чувств и, входя, воспринимается и ассимилируется нами. В своей совокупности это потребление мира, бытийственное общение с ним, коммунизм бытия, обосновывает все наши жизненные процессы. Сама жизнь в этом смысле есть способность потреблять мир, приобщаться к нему, а смерть есть выход за пределы этого мира, утрата способности общения с ним, и, наконец, воскресение есть возвращение в мир с восстановлением этой способности хотя бы в бесконечно расширенной степени»28. Пищей, таким образом, признается не только и не столько традиционные продукты питания; пищей становится все входящее в сознание и тело человека, органами «потребления», вкушения мира становятся все чувства человека, весь человеческий организм.
Именно в этом аспекте хозяйствование о. Сергия кардинально отличается от того, что вкладывается в это определение материалистической традицией. Потребность в слиянии с миром Божьим, обожение человека через потребление составляющих мир продуктов — пищевых, интеллектуальных, информативных, эмоциональных и т. п. — преобразуют саму сущность потребления. Потребитель из «экономэна», econom-man, превращается в «икономэна», icon-man, наполняя потребление, потребительство новым духовным содержанием и глубинным смыслом.
Подобное отношение к пище, восприятие акта приема пищи как сакрального действа преобразует сам формат отношений между человеком и миром. Глубоко об этом сказано было человеком, хорошо знавшего о. С. Булгакова, протоиереем А. Шмеманом: «Как пища человека, мир не есть нечто материальное, ограниченное “физическими” потребностями человека, и, тем самым, противоположное потребностям его “духовным”. В Библии все существующее, все творение, есть дар Божий человеку, оно существует, чтобы человек мог познать Бога, чтобы его жизнь стала причастием Богом созданной, Богом дарованной жизни»29.
Евхаристическое понимание пищи как пронизанной в каждой своей форме духовным «компонентом», обнаружение за граммом питательного продукта необозримой вселенской тайны — важный момент, позволяющий ощутить всю специфику богословия о. С. Булгакова и богословия в целом. Он писал: «…в истории этого хлеба, как и всякой частицы вещества, заключена история всей вселенной»30, отмечая особую метафизику пищи.
Блаженный Августин в «Исповеди» говорил, обращаясь к Тому, Кого он избрал своим исповедником: «Ты научил меня принимать пищу как лекарство… Эти земные плоды представляют аллегорические дела милосердия…», предлагая видеть в пище «лекарство бессмертия» (φάρμακον της άθανασίας). В этом же направлении идет и о. С. Булгаков, выстраивая неразрывную линию подобия между вкушением материальной пищи и Причастием: «Как пища поддерживает смертную жизнь, так евхаристическая трапеза есть приобщение к бессмертной жизни, в которой окончательно побеждена смерть и преодолена мертвенная непроницаемость материи»31. Материальная пища как результат материального хозяйствования становится прологом к обретению духовного питания, опыт восприятия материальной пищи как духовного акта помогает приблизиться к проницанию за пределы земного, помогает увидеть в «заработанном куске» великий дар единения с Божественным бытием.
Несомненно, о. С. Булгаков далек от идеализации «пищевых» отношений человека и мира. Он знает не только о сладости духовного насыщения, но и о муках голода, возникающих в результате неправильной организации хозяйства. Но и здесь богослов предлагает воспринимать голод не только в материально-физиологическом аспекте, а скорее как напоминание о религиозном содержании человеческой личности.
Голод воспринимается как форма духовного испытания, как, впрочем, и любое физическое страдание. Само по себе страдание ( о. Сергий придерживается традиционной христианской позиции) не значимо, но оно является зовом того сакрального мира, напоминающее человеку о его истинном предназначении. И, кроме того, подчиненность, физиологическая закабаленность голодом есть проявление слабости, проявление той неискоренимой греховности, которую обязан преодолевать всю свою земную жизнь человек. «Чувство голода, — пишет о. С. Булгаков, — угрожающего истощением, свидетельствует о какой-то обидной слабости человека, благодаря которой он оказывается пленником природной стихии; этот плен не может рассматриваться как нормальное достойное состояние человека»32. Плененность голодом подразумевает для христианина исход из состояния плена: тот самый Исход, который совершался и совершается на протяжении тысячелетий библейской истории.
Состояние голода, с теологических позиций о. С. Булгакова, может рассматриваться двояко. С одной стороны, голод есть явление негативное, возникшее в результате нехозяйственного отношения человека к миру и к самому себе: доведение до голодания себя и своих близких в условиях мирного хозяйства есть проявление личной слабости. Но, с другой, голод способен стать импульсом к преодолению себя, преодолеть исключительно материальный формат. Именно духовный голод, а не болезненное голодание, не утрата духовного питания, но жажда удовлетворить духовный голод, способна подвигнуть на путь духовного роста.
И здесь о. С. Булгаков выходит к теме труда, труда, обладающего религиозной маркировкой, что позволяет ему голод физиологический преодолеть, а голод духовный удовлетворить. Человек трудящийся и человек религиозный — основополагающие понятия в теологии протоиерея С. Булгакова. Хозяйствование и состоит из труда: «Хозяйство, т. е. трудовая защита и расширение жизни, трудовое творчество жизни, есть общий удел человечества, хозяйственное, т. е. трудовое, отношение к миру есть первоначальное и самое общее его самоопределение» 33.
Однако христианская традиция подразумевает именно сакральное понимание труда: и как сакральное проклятие — «в поте лица своего», и как священный дар, через который происходит преобразование мира. Труд становится связующей нитью между человеком и материей; путь преображения материи представляет погружение в бездуховность материального, в «тернии и волчцы», что и приводит к мучительному «поту лица». Но труд же выполняет поистине религиозную, связующую функцию (одна из этимологических версий «религии», как известно, — «связывание»), создавая ситуацию единства субъекта и объекта хозяйствования.
Этот аспект теологии о. С. Булгакова отмечал еще П. Б. Струве: «Булгаков разрешает проблему субъекта и объекта путем труда : погружение субъекта-объекта, вместе, в жизнь , в трудовой процесс, снимает их оппозицию и преобразовывает банальность ежедневной работы — будь то вспашка борозды в поле или написание страницы научного текста — в Божественное действие, в той степени, в которой оно стремится к воплощению софийного начала» («Несколько слов по поводу статьи С. Н. Булгакова»)34. Но проявление метафизического единства в процессе труда не только ограничивается рамками человеческого предназначения, значимость труда гораздо масштабнее. Его посредством человек выполняет свою метафизическую задачу по взращиванию Вселенной. «Причиной растения, — пишет о. С. Булгаков, — является семя, в котором скрыта вся его сила: однако для прорастания семени требуются благоприятные условия. Подобно этому и религиозное Начало, ниспосылаемое Богом — для своего осуществления и проявления нуждается в человеческих усилиях, которые, таким образом, определяют характер религиозной жизни» 35. Труд и есть создание тех условий, которые способствуют росту Блага на земле, причем на земле в буквальном смысле.
Показательно особое отношение о. С. Булгакова к земледелию, к процессу «делания» земли. Хотя сам он не имел опыта сельскохозяйственного преобразования земли, тем не менее, именно земледелие, пусть и интеллектуально-идеалистически представленное в работах протоиерея С. Булгакова, занимает особое место в определениях трудового процесса. В своей работе, знаково названной «Капитализм и земледелие», он писал о специфике земледелия: «Земледелие отличается, следовательно, соединением двух крайностей: господством сил природы и сил социальных, — двух стихий, стоящих вне человеческого контроля»36.
В сельском хозяйстве представлено в максимально обнаженной форме пограничное состояние человека между духовностью и материальностью, именно здесь пот не метафора, а реальное состояние. Именно в земледелии максимально близко трудовое проклятие, но здесь же недалеко и до благости. Несомненно, определенный культ земли, почвенничество было свойственно взглядам о. С. Булгакова, к этой специфике можно добавить и ситуацию оторванности от родной земли, эмиграцию, наложивший свой эмоциональный отпечаток на его богословие земледелия.
Но, конечно, исключительно земледелием о. С. Булгаков не ограничивает свои хозяйственные теологумены. Для него религиозным значением обладает вся производственная сфера деятельности человека: «Производство есть такое активное воздействие субъекта на объект, или человека на природу, при котором хозяйствующий субъект отпечатлевает, осуществляет в предмете своего хозяйственного воздействия свою идею, объективирует свои цели. Стало быть, производство есть, прежде всего, система объективных действий, субъективное здесь объективируется, грань, лежащая между субъектом и объектом, снимается, субъект актуально выходит из себя в объект»37.
Преодоление границ трудового проклятия возможно только при возвращении труду духовного контекста, понимания того, что труд есть не только материально ориентированный процесс, но и процесс в основном духовный: «Признак хозяйства — трудовое воспроизведение или завоевание жизненных благ, материальных или духовных, в противоположность даровому их получению. Это напряженная активность человеческой жизни, во исполнение Божьего слова: в поте лица твоего снеси хлеб свой , и притом всякий хлеб, т. е. не только материальную пищу, но и духовную: в поте лица, хозяйственным трудом, не только производятся хозяйственные продукты, но созидается и вся культура»38.
Культурообразующая роль труда — еще одна нить, связующая его с религией. Христианская религия создает культуру, именно культуру в целом, а не государство, армию, университеты и т. п. культурные фрагменты, — в том числе и с помощью труда. При этом преображается сам труд, или как писал о. С. Булгаков: «Христианство освободило и реабилитировало всякий труд, в особенности хозяйственный, и оно вложило в него новую душу. В нем родился новый человек, с новой мотивацией труда»39. Христианство подняло морально-нравственный авторитет труда, изменив его рабскую маркировку и придав ему сакральное звучание.
Но труд, в размышлениях о. С. Булгакова, имеет и психологическое значение. Он предстает не только как преобразование материи, но и как способ изменения, совершенствования души человека. Трудовое бремя, тяжелым грузом падающее на человеческую жизнь, обретает в христианстве черты смирения, преклонения и поклонения образу Бога, являющего себя в мире.
Труд в психологическом аспекте многозначен: он и аскетическое правило, которое «принимается для Господа, ради христианского послу-шания»40, он и процесс очищения собственной души, «средство воспитания воли, борьбы с дурными наклонностями, наконец, возможность служения близким»41. Многогранность духовных функций труда выводят о. С. Булгакова к онтологическому осмыслению трудового процесса как фактора, разрушающего стену между вещественным и духовным, идеалистическим и материальным. Гносеологическая значимость труда сформулирована им так: «Труд как основание гносеологии снимает поэтому проблему существования внешнего мира (а также и чужого я) как идеалистическое измышление, фантом отвлеченной мысли»42. Существование, наличие труда способно преодолеть соблазны солипсизма, радикального индивидуализма, придает существованию мира, а, следовательно, и человека, подлинную значимость.
Квинтэссенцией религиозного определения труда у протоиерея С. Булгакова можно считать следующее высказывание: «Всякий трудовой акт есть осуществление замысла человеческого вне человека»43. Труд помогает разорвать рамки ограниченности, приземленности человеческого бытия, позволяет человеку занять то место, которое ему предназначено в Божественной иерархии. И имя этому положению, имя той роли, которую призван играть человек в хозяйственном преобразовании Вселенной, — Хозяин.
Из самого этимологического значения слова «хозяин» (тюркское «хозя» — «господин») вытекает особое понимание хозяйствующе-возвы-шающегося положения человека в мире. Человек как хозяин выступает господином этого мира, мира материального, приравниваясь своим статусом к высшему господину, к Господу.
В этом, вероятно, также проявляется христианская идея о человеке как «образе и подобии Божьем», которую старался перенести на статус хозяина о. С. Булгаков. Он писал в работе «Царство Божие» о подобном метафизически широком понимании роли человека в мире: «Это можно толковать распространительно. Ибо поскольку Царствие Божие есть осуществление предвечного плана — постольку под хозяином можно понимать и Творца, сопрягающего старое с новым в божественном Промысле. Но поскольку Царство Божие есть зерно религиозной жизни, прорастающее в каждой индивидуальной душе, постольку хозяином является каждый человек (в известной степени воплощающий в себе образ и подобие предвечного Хозяина) — которому это соединение старого и нового предлежит как задача»44.
Положение хозяина, принимаемое человеком вместе с признанием своей особой роли христианина, создает особую модель поведения, которую о. С. Булгаков в статье «Героизм и подвижничество», самой своей, наверное, известной статье, которая, казалось бы, внешне не относится к проблеме хозяйствования, формулирует параметры подвижнической личности, религиозно ответственной за преображение мира. Подвижник, будь то религиозный деятель или хозяйствующий объект, руководствуется одной целью — служению Богу.
Выбор за каждым из нас, напоминает протоиерей С. Булгаков, выстраивая свою теологическую систему христианского хозяйствования, — цена этого выбора: спасение души. Один из путей к спасению лежит через сферу преображения материального мира, через построение созидательного идеала, прежде всего в духовном аспекте хозяйствования, через осуществления подвижничества, расширяющего материально-духовные границы хозяйствования.
Список литературы Принципы христианского хозяйствования в трудах протоиерея Сергия Булгакова
- Назаров И. В. Содержание и границы понятия хозяйства у С. Н. Булгаковав свете православного вероучения (по работам «Философия хозяйства» и «Свет Невечерний»)//Totallogy-XXI (восьмий випуск). Постнекласичнi дослiдження.К., 2002. 245-262 с.44 Там же. С. 20.
- Булгаков С. Н. Православие и социализм//Труды по социологии и теологии. М., «Наука», 1997. Т. 2. 566-568 с.
- Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М.: Наука, 1999.
- Булгаков С. Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения. М.: Республика,1994.
- Булгаков С. Н. Душевная драма Герцена. Киев: Издание книжного магазина С. И. Иванова, 1905.
- Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. Орел:Изд-во Орлов. гос. телерадиовещат. компании, 1998.
- Аверинцев С. С. Две статьи и одна лекция. URL: htp://e-libra.ru/read/322694-dve-stati-i-odna-lektciya.html (дата обращения: 25.01.2017).
- Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму: сборник статей. СПб.: Товарищество «Общественная польза», 1903.
- Шмеман А., прот. За жизнь мира. М.: Издательский дом: Издательство храма святой мученицы Татианы., 2003.
- Булгаков С. Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов. -СПб.: Изд-во РГХИ, 1997.
- С. Н. Булгаков: Религиозно-философский путь: Международная научная конференция, посвященная 130-летию со дня рождения. Сборник материалов/науч. ред. А. П. Козырев, сост. М. А. Васильева, А. П. Козырев. М., 2003.
- Булгаков С. Н. Капитализм и земледелие. СПб.: Тип. и литогр. В. А. Тиханова, 1900. Т. 2.