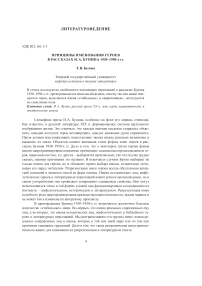Принципы именования героев в рассказах И. А. Бунина 1930–1950-х гг.
Автор: Белова Татьяна Викторовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются особенности именования персонажей в рассказах Бунина 1930–1950-х гг., предпринимается попытка объяснить, почему так или иначе именуются герои, выделяются имена «стабильные» и «вариативные», исследуются их смысловые поля.
И. а. бунин, русская проза хх в, имя героя, вариативность и стабильность имени
Короткий адрес: https://sciup.org/146122015
IDR: 146122015 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Принципы именования героев в рассказах И. А. Бунина 1930–1950-х гг.
Специфика прозы И. А. Бунина, особенно на фоне его лирики, очевидна. Как известно, в русской литературе XIX в. формировалась система каузального изображения жизни. Это означало, что каждое явление писатели старались объяснить, каждый поступок героя мотивировать, каждое движение души опричинить. Проза должна восстанавливать недостающие звенья между разными явлениями и выявлять их связи. Объектом нашего внимания стали формы имен героев в рассказах Бунина 1930–1950-х гг. Дело в том, что у некоторых групп героев форма имени запрограммирована внешними причинами: социальным происхождением героя, национальностью, а у других – выбирается произвольно, так что подчас трудно сказать, какими причинами это вызвано. В некоторых случаях Бунин выбирает не только имена для героев, но и обнажает прием выбора имени, сознательно мотивируя его перед читателем. Репрезентация имен героев всегда обусловлена авторской позицией и является одной из форм оценки. Имена исторических лиц, мифологических героев и литературных персонажей имеют разное происхождение, но в своем употреблении они проявляют совершенно одинаковые свойства. Они могут использоваться точно в той форме, в какой они функционировали в породившем их контексте – мифологическом, историческом и литературном. Репрезентация имен подобного рода запрограммирована предшествующим контекстом, задана заранее и не может быть изменена по авторскому произволу.
В произведениях Бунина 1930–1950-х гг. встречается достаточно большое количество «стабильных» имен. Во-первых, это имена реальных современных ему лиц, а во-вторых, это имена исторических лиц, мифологических и библейских героев и литературных персонажей. Мы разграничиваем эти группы имен: имена реальных современных лиц и имена, которые в той или иной мере или по тем или причинам освящены традицией. Дело в том, что такое разграничение имен принципиально важно для понимания их репрезентации в литературном тексте.
Историческими будем называть имена таких реальных лиц, чья жизнь к моменту зрелости Бунина уже закончилась, при этом дистанция, отделяющая жизнь этих людей от жизни Бунина, для нас не важна. Среди них имена писателей, поэтов, людей, так или иначе связанных с мировой культурой: Гомер, Данте, Петрарка, Леонардо да Винчи, Наполеон, Мопассан, Л. Н. Толстой, Л. Андреев, Эртель и др.
Следует заметить, что иногда разграничить имена исторические и литературные достаточно сложно. Так, в рассказе «Галя Ганская» имена Мопассана и Леонардо да Винчи используются как нарицательные и приобретают иной смысл:
«Целовались ужасно, ну и все прочее, но тогда меня жалость взяла: вся раскраснелась, как огонь, вся растрепалась, и вижу, что уже не владеет собой совсем не по-детски – и страшно и ужасно хочется этого страшного…
– Но как же после этого ты целый год не видал ее?
– А черт его знает как. Боялся, что во второй раз не пожалею.
- Плохой же ты был Мопассан» [2, с. 356 ].
Без сомнения, имя французского писателя употребляется в значении «любовник», «соблазнитель». Имя же великого гуманиста эпохи Возрождения низводится до «доморощенного химика»: «Ты знаешь – у Ганского дочь отравилась! Насмерть! Чем-то, черт его знает, редким, молниеносным, стащила что-то у отца – помнишь, этот старый идиот показывал нам целый скапчик с ядами, воображая себя Леонардо да Винчи» [ Там же, с. 358].
Также достаточно условны и границы между историческими именами и собственно персонажами бунинских произведений. Источником рассказа «Жилет пана Михольского» стал «Анекдот о Гоголе» И. И. Ясинского (псевдоним – Максим Белинский). Все персонажи – реальные лица, но в контексте произведения они приобретают черты вымышленных персонажей. Пан Михольский вступает в конфликт с Гоголем-персонажем, желающим, по твердому убеждению пана, во что бы то ни стало заполучить его жилет: «Но Гоголь <…> за стол не садится, а все продолжает глядеть на меня, точнее сказать, на мою грудь, в тот день украшенную одной из моих новых и лучших жилеток: жилетка эта тоже весьма нарядна, только походила не на шкурку лягушки, как столичного гостя, а на шкурку хамелеона» [ Там же, с. 499].
Имена мифологических и библейских персонажей немногочисленны: это боги и герои мифологии (Юпитер, Венера, Морфей, Антигона, Эдип, Дидона, Медея, Язон) и библейские персонажи (Адам, Ева, Суламифь, царь Давид, пророки Иеремия и Осия). Все они в большинстве своем выполняют функцию «второго имени» персонажа. Героиня рассказа «Месть», обманутая любовником и брошенная без средств к существованию, намерена отомстить за нанесенное оскорбление. В начале рассказа она задана как роковая женщина, как воплощение мести: «…черные густые волосы, крупная черная коса, обвивающая голову, сильное тело в красном с черными цветами платьем из кретона, красивое, грубоватое лицо – и этот мрачный взгляд» [ Там же, с. 297 ].
Обратимся к именам литературных героев. Бунин упоминает лишь два имени, и это женские персонажи: Беатриче, героиня поэмы Данте «Божественная комедия», Лаура, воспетая Франческо Петраркой в его сонетах. Имя Беатриче встречается в рассказах «Генрих» и «Прекраснейшая солнца», оно используется автором как самостоятельное, оторвавшееся от породившего его контекста и уже существующее само по себе. Имя героини Данте к этому времени уже стало символом опреде- ленных качеств и свойств и поэтому не нуждается в конкретизирующем контексте. Герой рассказа «Генрих» с раздражением говорит об Италии, ставшей «Меккой для туристов и художников»: «Я зол на нее из-за наших эстетствующих болванов… Треченто, кватроченто… И я возненавидел всех этих Фра Анжелико, Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче и сухоликого Данте в бабьем шлыке и лавровом венке...» [1, с. 130].
Совсем иной характер имеет употребление литературного имени Лаура в рассказе «Прекраснейшая солнца». Здесь возлюбленная Петрарки не символическая фигура, а настоящая героиня произведения Бунина. Размышляя о любви Франческо и Лауры, писатель пытается воссоздать образ женщины, полной жизни и любви, освященной высшими силами. Она – «прекраснейшая солнца» – у Бунина, как и в сонетах Петрарки, уподобляется возлюбленной Аполлона. История любви Франческо и донны Лауры, с точки зрения писателя, дарует людям просветление духа: «…узнай ту, что навсегда преградила тебе путь в первый же день ее встречи с тобою; узнай, что смерть для души высокой есть лишь исход из темницы, что она устрашает лишь тех, кои все счастье свое полагают в бедном земном мире...» [ 2, с. 490 ].
Собственно «вариативные» имена в рассказах писателя принадлежат одной группе: все они имена бунинских персонажей. Надо, впрочем, отметить, что среди этой группы имен есть те, которые даны только в сокращенных формах, без каких-либо полных вариантов, и те, которые имеют различные варианты. Самая обширная группа – имена с отсутствием отчества и фамилии. Среди них можно выделить имена персонажей, принадлежащих к низшим сословиям: крепостные, наемные слуги (садовники, повара, горничные), низшие воинские чины. В основном эти персонажи называются просто по имени, но в том случае, если они имеют особый статус (возраст, ценимая специальность), то они уже называются не только по имени, но по имени и отчеству или по имени с добавлением фамилии. Примером может служить персонаж «Речного трактира» половой ресторана «Прага». Возраст героя и место работы дает возможность клиентам называть его по имени-отчеству: «Иван Степаныч, шустовского… Пока старый половой Иван Степаныч ходил за шустовским, он рассеянно молчал. Когда подали и налили по рюмке, задержал бутылку на столе и продолжал, хлебнув коньяку и из горячей чашечки...» [ Там же, с. 399 ].
Другая группа персонажей, названных только по имени, – это дети или юноши и девушки, только вступающие во взрослую жизнь или до конца не сформировавшиеся как личности. Зачастую их имена употреблены как уменьшительные, в разговорной форме: Руся («Руся»), Толя («Смарагд»), Зойка и Валерия, она же Валя («Зойка и Валерия»), Галя («Галя Ганская»), Лиля («Ворон»), Аля («Аля»). В ряде произведений имена этих же героев предстают как двусоставные, то есть полные имена в сокращенной форме (имя и фамилия): Муза Граф («Муза»), Валерия Остроградская («Зойка и Валерия»), Галя Ганская («Галя Ганская»), Наташа Станкевич («Натали»), Алексей Мещерский («Натали»). Ясно, что такая репрезентация героев имеет художественное задание: читатель ощущает противоречие между «взрослыми» чертами героев и их «детской» сущностью. Именно так характеризует герой-рассказчик героиню одноименного произведения: «И уже не подросток, не ангел, а удивительно хорошенькая тоненькая девушка во всем новеньком, светло-сером, весеннем. Личико под серой шляпкой, наполовину закрытой пепельной вуаль- кой, и сквозь нее сияют аквамариновые глаза. Ну, конечно, восклицание, расспросы и упреки: как вы все забыли папу, как давно не были у нас! Ах, да, говорю, так давно, что вы успели вырасти» [Там же, с. 354].
Весьма показательно использование в названии произведения имен, противопоставленных друг другу. Примером может служить заглавие рассказа «Зойка и Валерия». Характеристики героинь напрямую связаны с тем, какими именами они представлены в произведении: «Ей [ Зойке. - Т. Б. ] было всего четырнадцать лет, но она уже была очень развита телесно, сзади особенно, хотя еще по-детски были нежны и круглы ее сизые голые колени под короткой шотландской юбочкой. Год тому назад её взяли из гимназии, не учили и дома…» [Там же, с. 318]. Совершенно иначе автор рисует героиню по имени Валерия (домашние ее иногда называю Валею). Перед нами девушка со сформировавшимся характером и своими взглядами на жизнь: «…крепкая, ладная, с густыми темными волосами, с бархатными бровями, почти сросшимися грозными глазами цвета черной крови, с горячим темным румянцем на загорелом лице, ярким блеском зубов и полными вишневыми губами» [Там же, с. 319]. Валерия представлена полным, взрослым именем – Валерия Остроградская; ее же младшая сестра названа домашним, детским именем. Именно «детской» точкой зрения следует объяснять наличие домашних ласкательных имен у персонажей рассказа: Жоржик, Гришка, Валечка. Именно так, по-семейному, называет некоторых членов семьи Зойка, которая находится еще в подростковом возрасте.
Закономерно, что зрелые персонажи становятся носителями имени и отчества: Николай Алексеевич («Темные аллеи»), Викентий Викентич («Муза»), Николай Платоныч («В Париже»), Дмитрий Николаевич («Кума»), Борис Петрович и Анна Матвеевна («Три рубля») и др. Любопытно, что и юные персонажи могут быть названы подобным образом, но только в тех случаях, когда взрослые пытаются призвать их к «правильному» поведению и благоразумию, то есть встать на позицию зрелого человека. В качестве примера можно привести рассказ «Руся». Мать героини не в состоянии перенести самого факта любовного увлечения дочери и ставит дочь перед страшным выбором: «Только через мой труп перешагнет она к тебе! Если сбежит с тобой, в тот же день повешусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он!» [Там же, с. 290].
Имя героя, безусловно, является способом изображения человека, средством характеристики, средством выделения определенных качеств. «Стабильные» имена не изменяются на протяжении всего повествования, впрочем, они принадлежат эпизодическим героям, создающим тот фон, на котором разворачиваются действие, судьба основных действующих лиц. «Вариативные» имена принадлежат героям основного, центрального круга действия, и чем они ближе к центру, чем чаще появляются в произведении и активнее участвуют в событиях, тем более вариативными становятся их имена.
Список литературы Принципы именования героев в рассказах И. А. Бунина 1930–1950-х гг.
- Бабореко А. К. И. А. Бунин. Материалы для биографии. М.: Худож. лит., 1983. 658 с.
- Бунин И. А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5: Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1932-1952 гг. М.: Худож. лит., 1988. 639 с.