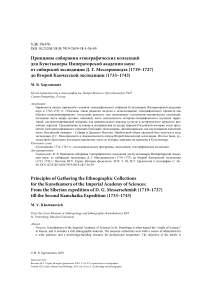Принципы собирания этнографических коллекций для кунсткамеры Императорской академии наук: от сибирской экспедиции Д. Г. Мессершмидта (1719-1727) до второй камчатской экспедиции (1733-1743)
Автор: Хартанович Мария Валерьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История науки
Статья в выпуске: 5 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Проводится анализ принципов создания этнографического собрания Кунсткамеры Императорской академии наук в 1716-1743 гг. Отмечены этапы развития подхода к использованию этнографического предмета как объекта коллекционирования: «отдельная редкость или дополнение» естественно-исторических коллекций, наглядная часть жанра путевых описаний, часть комплексного историко-географического изучения территорий, систематизированный материал для сравнительного анализа культур и исторического прошлого раз-личных народов. Традиционная духовная и материальная культура народов Российской империи стала предметом систематизированного описания благодаря экспедициям, организованным для исследования азиатской части Российской империи - Сибири и Дальнего Востока. Наибольший объем сведений был получен в ходе экспедиции Д. Г. Мессершмидта и Академического отряда Второй Камчатской экспедиции. Итогом таких путешествий стали также коллекции предметов, часть из которых передана на хранение в Кунсткамеру.
Кунсткамера, 1716-1743 гг, исследовательские программы, экспедиции, этнографические коллекции
Короткий адрес: https://sciup.org/147220113
IDR: 147220113 | УДК: 39(4/9) | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-5-36-49
Текст научной статьи Принципы собирания этнографических коллекций для кунсткамеры Императорской академии наук: от сибирской экспедиции Д. Г. Мессершмидта (1719-1727) до второй камчатской экспедиции (1733-1743)
Кунсткамера Императорской академии наук XVIII в. представляла собой структурированное содружество наук. Она включала: библиотеку; собрание древностей; коллекции, представляющие все царства природы; комплексы предметов, воссоздающих традиционный уклад жизни, верования народов далеких стран и Российской империи; Физический кабинет; Обсерваторию; Анатомический театр.
Кунсткамера была не только музеем, но также исследовательской лабораторией, Theatrum scientiarum – подмостками для представления достоверного, экспериментального знания и открытий.
В «Проекте положения об учреждении Академии наук и художеств» Петра I оговаривалось: «…а чтоб академики в потребных способах недостатку не имели, то надлежит, дабы библиотека и натуральных вещей камора академии открыта была» [Материалы…, 1885. Т. 1. С. 19].
Характеристика коллекций как «натуральных вещей камора» свидетельствует о преобладании естественнонаучных коллекций в императорском собрании, предоставленном для опытов академиков.
Основу Кунсткамеры Императорской академии наук составили коллекции по естественной истории, купленные Петром I у голландского аптекаря Альберта Себы (1716 г.) и голландского анатома Фредерика Рюйша (1717 г.).
Частью собрания А. Себы были китайские картины и статуэтки, китайская и японская обувь, образцы японского оружия, лаковые и инкрустированные японские и китайские кабинеты с различными редкостями, оружие из Ост- и Вест-Индии, отдельные предметы традиционной культуры народов Африки, Америки, изделия туземцев без точного определения. Они образовывали раздел собрания Diversa – «Разное», вместе с яйцами пресмыкающихся и редких птиц, черепом кита, клювами птиц, кораллами, рыбами, растениями и прочим [Дриссен-ван хет Реве, 2015. С. 318–322].
Кунсткамеру Императорской академии наук нередко называют колыбелью российской науки.
Академия наук была призвана решать как фундаментальные, так и практические задачи, связанные с модернизацией Российского государства. Развитие экономики, промышленности, дипломатии России требовало достоверных физико-географических сведений о стране, об истории заселения и освоения территорий, о населяющих ее народах.
Правительством совместно с Академией наук предпринимались меры по организации экспедиций для комплексного изучения разных территорий Российской империи. Академия разрабатывала для экспедиций программы и инструкции, частью которых были задачи по опи- санию и изучению народов. Решение таких задач требовало создания алгоритма сбора данных, визуальной фиксации, сбора вещественных памятников как одного из приемов систематизированного описания явления. Поэтому целью настоящей статьи является изучение истории и эволюции принципов формирования коллекций Кунсткамеры, служащих для «описания народов» – от любопытного дополнения к коллекциям по естественной истории до части системного описания и классификации явлений традиционных культур. Задачами такой работы должны стать прослеживание взаимосвязи и взаимообусловленности в формировании коллекций, выявление особенностей процесса их описания, изучения и систематизации явлений традиционной культуры. В научный оборот вводятся сведения архивных материалов, связанные с организацией собирания этнографических коллекций и показывающие комплексность и системность подхода исследователей XVIII в. к изучению традиционных культур.
Результаты исследований и обсуждение
Сбор предметов традиционных культур развивался в рамках естественнонаучных экспедиций. В их организации участвовали различные государственные ведомства, включая Академию наук. Перед исследователями ставился комплекс задач, преимущественно, из области изучения живой и неживой природы и медицины. Однако изыскания не были ограничены только этими направлениями. Исследователь мог описывать и собирать всё, что представится ему достойным изучения.
Так, например, в 1724 г. в Константинополь было направлено посольство, возглавляемое А. И. Румянцевым. Доктором при посольстве состоял ботаник И. Х. Буксбаум. От Академии наук он получил краткие инструкции по описанию, зарисовке и собиранию коллекций из трех царств природы: минералов, растений, животных. Кроме того ему поручалось «срисовывать все, что покажется ему любопытным» [Пекарский, 1870. С. 239]. Наряду с ботаническими и нумизматическими коллекциями от И. Х. Буксбаума в Кунсткамеру Академии наук поступили рисунки греческих и турецких костюмов [Там же].
В 1720–1727 гг. по Сибири проходила экспедиция медика Даниила Готлиба Мессершмид-та (1685–1735). Цель экспедиции была задана в указе Петра I от 15 ноября 1718 г. – «изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей: трав, цветов, корений и семян и прочих принадлежащих статей в лекарственные составы» [Новлянская, 1970. С. 9–10].
Д. Г. Мессершмидт изучал не только живую и неживую природу Сибири. По традиции описаний путешествий в далекие земли исследователь записывал сведения об укладе жизни, обрядах, встречаемых у разных народов, делал их зарисовки, собирал древности, найденные в курганах, предметы культа и быта сибиряков. Ко времени его путешествия в путевых очерках западноевропейских путешественников складывалась определенная система описания традиционной культуры встречаемых народов: внешний облик, жилища, средства передвижения, промыслы, пища, верования. Такие сведения, кроме пополнения «энциклопедии» жизни различных народов, возможностей установления контактов, были существенны для понимания системы их выживания. Так, например, капитан Джон Перри (1670–1732), с 1698 по 1715 г. выполнявший различные дипломатические поручения Петра I, исследовал возможности прохода судов у Новой Земли в Татарское море, собирал в Архангельске сведения о народах этих мест, которые затем были опубликованы. Д. Пери, в частности, размышлял о применении опыта коренных жителей для выживания в этих местах англичанами, потерпевшими кораблекрушение [Зиннер, 1968. С. 40].
Публикации дневников Д. Г. Мессершмидта, перевод на русский язык извлечений этнографического характера показывают, что его описания были выстроены по определенной системе. Например, в извлечениях из «Дневника путешествия из Тобольска через Тару, Томск и дальше в Сибирском государстве» [Путешествие…, 2003] за 1721–1722, 1723–1724,
1725 гг. в изложении данных по татарам, кетам, хантам, бурятам, эвенкам Д. Г. Мессершмидт следовал плану:
-
• особенности внешнего облика;
-
• татуировки;
-
• одежда и прически мужчин, женщин, девушек;
-
• устройство жилища;
-
• питание;
-
• календарь;
-
• музыкальные инструменты;
-
• похоронные обряды;
-
• шаманы и шаманские ритуалы;
-
• самоназвания, счет, названия географических объектов, названия предметов и явлений.
Переводы записей Д. Г. Мессершмидта о встречах (на обратном пути из Сибири в Санкт-Петербург) с северными удмуртами в 1726 г. также содержат описания внешнего облика, жилищ, пищи, верований, занятий, девичьей и женской одежды, этнонимы и словарь, содержащий более 300 слов удмуртского языка [Напольских, 2001. С. 75–105]. Удмуртский женский костюм вызывал интерес «любопытствующих путешественников», не оставил равнодушным и Д. Г. Мессершмидта, решившего купить такой костюм для своего частного собрания: «…я постараюсь закупить полный женский костюм с головы до ног, поскольку генерал-майор Хеннингс и князь Мешевский, и другие проезжающие любопытствующие путешественники также советовали <мне> таковой для себя добыть» [Там же. С. 85]. С огромным трудом Д. Г. Мессершмидт добыл праздничный женский удмуртский костюм с намерением показывать его в своем музее на манекене [Там же. С. 86]. Он зарисовал чепецкую удмуртку в головном уборе «ашкон» [Там же. С. 140], а также купил еще несколько женских и девичьих удмуртских костюмов [Там же. С. 114], которые позднее оказались в собраниях Кунсткамеры.
Таким образом, записи этого исследователя показывают, что самобытные предметы традиционной культуры привлекали внимание различных путешественников и могли не только украсить собственные собрания редкостей, но и быть интересными для показа в Санкт-Петербурге.
Если описания Д. Г. Мессершмидтом внешнего облика, уклада жизни и обрядов были частично опубликованы в переводе на русский язык, то списочный состав предметов традиционной культуры оставался на страницах публикации его дневников на немецком языке. Для этой работы был выполнен перевод списков предметов, в том числе с этническими названиями и датами приобретения. Так, в посылке из Иркутска от 22 апреля 1725 г. значились:
-
1) татарский головной убор kuwäss , 1 марта 1721;
-
2) самоедская сумочка, [17] июня 1723;
-
3) самоедская медная диадема, [17] июня 1723;
-
4) самоедская свитка из шкуры, белая, шагрень, 17 июня 1723;
-
5) самоедские высокие сапоги для [глубокого] снега, белые, 17 июня, 1723;
-
6) самоедская обувь, белая, (Усть-Илга), [4 ноября] 1723;
-
7) самоедский сюртук или зимняя свитка, серая, 17 июня, 1723;
-
8) самоедская меховая свитка, дублет (No 4), серая, 17 июня, 1723;
-
9) остякская парка или кожаная свитка, *** 1723;
-
10) сумочка оленных тунгусов( Ah-un , 18 июня, 1723;
-
11) замшевая свитка оленных тунгусов, 18 июня, 1723;
-
12) нагрудное украшение оленных тунгусов halmy , 18 июня 1723;
-
13) Shewocky оленных тунгусов, или идол, железный, 16 июля 1723;
-
14) Hasch оленных тунгусов, или браслет, 18 июня 1723;
-
15) Herky оленных тунгусов, или брюки, 18 июня 1723;
-
16) огниво оленных тунгусов, 18 июня 1723;
-
17) Niori , айсшток оленных тунгусов, 16 июля 1723;
-
18) ухочистка оленных тунгусов, 18 июня 1723;
-
19) Noëlleka оленных тунгусов, или кожаный фартук;
-
20) чулки оленных тунгусов, *** 1723;
-
21) (+11) свитка оленных тунгусов, белая, замшевая, 18 июня 1723;
-
22) (+12) Halmy оленных тунгусов, или нагрудное украшение, 18 июня 1723;
-
23) (+16) огниво оленных тунгусов, 18 июня 1723;
-
24) якутские чулки, 22 сент. 1723;
-
25) сумка из шкуры косули, с рогами, конные тунгусы, *** 1724;
-
26) черкесская свитка, желтая, из китайки, ***;
-
27) даурский шайтан, тройной, ***;
-
28) русский нож (чучуйский), 22 сентября 1723.
В продолжение списка:
-
«29 ) даурская меховая сумка, 5 августа;
-
30) тунгусская Parka и Halma , ворсовые, 5 августа;
-
31) тунгусская Parka и Halma , замшевые, 5 августа;
-
32) самоедские сапоги из оленьего меха, белые, 5 августа;
-
33) самоедские сапоги из оленьего меха, коричневые, 5 августа;
-
34) даурские сапоги из шкуры волка, старые, 5 августа;
-
35) русские перчатки из шкуры песца, 30 июля;
-
36) шкура ирбиса или пантеры, 30 июля;
-
37) шкура оленя от самоедов, с отделкой, 29 июля;
-
38) шкура оленя от самоедов, с пестрой каймой, 10 августа;
-
39) шкура оленя от самоедов, с отделкой, 10 августа;
-
40) шкура лося, 12 августа» [Messerschmidt, 1968. S. 194–196].
Предметы вошли в генеральный список (Tabulae generalis) № 5 и 6.
В продолжение списка RANG LAPP от 26 ноября 1725 г. в разделе «современные мелочи» числятся:
-
«№ 56) самоедский Guss , или сюртук от 14;
-
57) самоедская сумочка (1 шт.), от 14;
-
58) сумочка для табака Ass-jach , 1 шт. от 14;
-
59) Ssynie , или верхняя одежда из рыбьей кожи, 20 коп. от 24;
-
60) Paâss , или рукавицы, 1 п., от 24;
-
61) Chantang-ssagon кубический, 1 шт., от 12» [Messerschmidt, 1977. S. 40–41].
В продолжение списка № 21 UR–LAP (от 12 февраля) с указанием цены числятся следующие предметы:
«От 21 самоед. Malitza , белая 1,50;
От 21 самоед. бобровая свитка, 1 шт., – ,20;
От 21 самоед. сапоги из оленьего меха, 1 пара, – ,30» [Messerschmidt, 1977. S. 105].
Поступление предметов из экспедиции Д. Г. Мессершмидта можно считать этапным событием для Кунсткамеры, поскольку они собирались как часть системного описания явлений традиционной культуры непосредственным очевидцем их бытования в культурной среде. В комплексе с записями из путевого дневника коллекции составляли наглядное, достоверное свидетельство изложенных фактов о бытовании таких предметов.
Существенным источником пополнения собраний Кунсткамеры были дары и целенаправленные покупки у частных коллекционеров.
Так, 30 мая 1735 г. президент Академии наук И. А. Корф направил в Кабинет императрицы Анны Иоанновны доклад с просьбой передать в Кунсткамеру коллекции покойного сподвижника Петра I генерал-фельдмаршала Я. В. Брюса: «…многие куриозные вещи, яко книги, инструменты, до древности принадлежащие вещи, редкие монеты и каменья», купленные Брюсом в Германии во время путешествий с Петром I, «а отчасти здесь великим трудом ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 5: Археология и этнография
Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2019, vol. 18, no. 5: Archaeology and Ethnography и иждивением собрал» [Материалы…, 1886. Т. 2. С. 728]. В январе 1736 г. Академия наук получила коллекцию Я. В. Брюса, в том числе китайские и азиатские вещи – в основном статуэтки из камня, фарфора, меди [Материалы…, 1895. Т. 7. С. 406–408].
Предметы культуры, преимущественно Китая, покупались у частных продавцов. Например, зимой 1738 г. у кухмейстера Иоганна Рейслера были приобретены китайские изделия из меди: курильницы, зеркала, статуэтки, изображающие животных, людей, божеств, мифических существ, и пр. [Материалы…, 1886. Т. 3. С. 629].
Весной 1742 г. у обер-комиссара Леви Липмана были куплены китайские картины, статуэтки, чаши из резного камня [Материалы…, 1889. Т. 5. С. 99–100].
Китайские изделия из фарфора, камня, металлов, лака, предметы одежды поступали также из Канцелярии конфискации [Материалы…, 1887. Т. 4. С. 747–750].
Очевидно, что пополнение собраний по традиционным культурам за счет даров и покупок находилось под существенным влиянием личных предпочтений частных собирателей. Предметы представляли скорее не какой-либо народ, а область художественного ремесла либо популярное направление коллекционирования.
Переломным событием в становлении собрания предметов традиционных культур различных народов как инструмента науки, служащего для классификации и систематизации таких явлений, стала деятельность Академического отряда Второй Камчатской экспедиции.
История организации, исследований и результаты работы Академического отряда Второй Камчатской экспедиции (1733–1743) в области «истории народов» продолжают и в XXI в. давать интересный материал для осмысления и представления этого научного предприятия.
Сбор коллекций для Кунсткамеры был одной из существенных составляющих работы экспедиции. Эта сторона деятельности ученых в разной степени освещалась в исторической литературе. Архивные и печатные материалы, включающие указания по сбору сведений и коллекций для Кунсткамеры, были введены в научный оборот А. И. Андреевым [1965. С. 73– 286]. Обзор результатов этой экспедиции с точки зрения вклада в этнографию был выполнен М. О. Косвеном [1961. С. 166–212]. Этнографическое и историческое наследие участников Второй Камчатской экспедиции в целом, и особенно заметки Г. Ф. Миллера, изучаются, анализируются и публикуются А. Х. Элертом. Им были введены в научный оборот ценнейшие архивные сведения, в том числе и по собиранию этнографических коллекций [Элерт, 2018]. Опубликован перевод с немецкого на русский язык документа исключительного значения для истории российской науки, истории этнографии и физической антропологии – систематизированного плана изыскательской, этнографической и антропологической полевой работы, составленного историком Г. Ф. Миллером, – «Показание, каким образом при описании народов, а паче сибирских, поступать должно» [Элерт, 1999. С. 181–226].
Списки предметов, поступавших в Кунсткамеру, в том числе служащих для описания народов, опубликованы в «Летописи Кунсткамеры. 1714–1836» [2014. С. 557–561, 567–569, 577 и др.].
-
5 апреля 1733 г. на заседании Конференции Академии наук утверждена инструкция Г. Ф. Миллера «О истории народов» по описанию народов Сибири и Камчатки [Андреев, 1937. С. 60]. Отдельные ее пункты касались сбора предметов по древней истории и традиционной культуре народов, проживавших в местах работы экспедиции, зарисовке их внешнего облика:
-
«9 . Все всякого рода останки, древние монументы, сосуды древние и новые, идолы и знатнейших городов проспекты отчасти в точность списываемы, отчасти в Санкт-Петербург привозимы быть должны.
-
10. Каждого народа и племени несколько человек обоего пола, которых свойства сего народа на глазах и на стане тела видны, вместе с употребительнейшею их одеждою тщательно списаны, также и несколько образцов одежды всякого рода в Санкт-Петербург привезены быть должны» [Миллер, 1937. С. 460–461].
Таким образом, задача по сбору этнографических предметов для Академии наук была впервые четко сформулирована в программе общих экспедиционных исследований.
Сбор этнографических предметов и материалов был подкреплен правительственными указами. Г. Ф. Миллер и И. Г. Гмелин рассылали в воеводские канцелярии промемории, касающиеся сбора сведений по истории и географии края, присылке останков мамонтов и неизвестных животных, а также покупке у местных жителей мужской и женской одежды. Такие запросы были разосланы в Якутскую, Нарымскую, Сургутскую, Березовскую воеводские канцелярии и Енисейскую провинциальную канцелярию [Летопись Кунсткамеры…, 2014. С. 122].
Большой вклад в формирование этнографического фонда Кунсткамеры Академии наук внес тогдашний студент Академии, а в будущем профессор натуральной истории и ботаники С. П. Крашенинников. В 1733 г. он выехал в экспедицию совместно с Г. Ф. Миллером и И. Г. Гмелиным. В июле 1737 г. из Якутска по заданию этих профессоров С. П. Крашенинников был отправлен на Камчатку. И. Г. Гмелин и Г. Ф. Миллер дали ему комплексную инструкцию для проведения изысканий в области естественных наук и описания народов. Отдельные пункты инструкции были посвящены собиранию этнографических предметов и книг для Кунсткамеры:
«Ежели на Камчатке находятся какие японские идолы или иные какие примечания достойные вещи, а наипаче книги, то оные со всяким прилежанием сыскивать и для императорской Кунсткамеры покупать (п. 58) <…>.
В Охоцке и на Камчатке стараться тебе всячески о получении для отсылки в императорскую Кунсткамеру лучшаго платья всяких иноземческих народов как мускаго, так и жен-скаго, также и ребячьего, ежели, кроме величины, есть в чем какая отмена (п. 79)» [Косвен, 1961. С. 196–197].
О направлениях и структуре сбора материалов свидетельствует перечень вопросов, составленных в 1738 г. Г. Ф. Миллером для переводчика Ильи Яхонтова. Г. Ф. Миллер отправлял Яхонтова в Селенгинск, в улусы скончавшегося тайши Лапсана, где находился монгольский лама Дзорджи. Ламу следовало расспросить о следующем: об истории монголов до времен Чингисхана, о том, где он жил и где был погребен, о тангутской земле, о Далай-ламе, о жизни монахов, о клятвах, об обрядах при рождении ребенка и при заключении брака, при погребении или кремации. И. Яхонтову было велено самому побывать на церемонии богослужения и все подробно описать. Кроме того, привезти предметы, использующиеся при богослужении (прилож. 1).
Ключевым документом в отражении построения исследовательской и собирательской работы является «Показание, каким образом при описании народов, а паче сибирских, поступать должно», составленное Г. Ф. Миллером для адъюнкта И. Э. Фишера [Элерт, 1999. С. 181–226]. Описание народов по этой программе строилось в комплексе лингвистических, археологических, исторических, антропологических и этнографических данных, размещенных по иерархической структуре.
Частью программы являются наставления «О собирании различных предметов для императорской Кунсткамеры» и «О рисунках» – примеры первых системных подходов к сбору коллекций по культуре народов с целью их дальнейшего включения в систему научного изучения. Приведем полностью первый из документов.
«О собирании разных вещей в Императорскую Кунсткамеру, а именно 1
-
2) Всякое платье муское и женское всех народов, а понеже моим старанием такого платья много прислано, то на конце приобщу в росписание собрания тому платью, дабы по тому лучше поступать можно было
-
3) Прислать татарскую или братскую юрту, которая войлоком покрыта вместе с деревянными подставками, и со всеми принадлежностями, каковые обыкновенно у них поставляются
-
4) Березовые корки, которыми покрываются тунугские юрты
-
5) Нюки из лосиной или оленей кожи, которые бывают на самоедских юртах
-
6) Деревянные подставки под юкагирскими юртами с лосиными и оленьими кожами, которыми оные покрываются, ежели оные от самоедских юрт зело разнятся
-
7) Всякой домашней скарб, которой от нашего какую нибудь имеют отмену
-
8) Разнаго дела кольчуги, стрелы и луки, також сандаки, в которые кладут луки 4 и стрелы, и прочие охотничьи инструменты, також и пару курильских лопаток
-
9) Всякие обрасцы ловушков и силков, которыми ловят зверей и птиц, и оным модели приказать зделать искусным охотникам и промышленным
-
10) Коренья, которые едят, сушат и сушоные травы, переложенные оные бумагой. Також и те травы, которые вместо труда и моксы или вместо чая или на краску употребляются, сохраненные достойно, не менее же проведывать и о тех травах, которые настоящую или по суеверию приписанную оным силу имеют 5
-
11) Музыкальные инструменты и охотничьи рога
-
12) Всякие езыческие болваны, жертвенные сосуды разнаго дела волшебные бубены с лопатами, при том же и шаманское платье со всеми принадлежностями, из оных вещей собрано много довольное число, как ниже сего в росписи явствует
-
13) Болваны и всякие уборы и сосуды, которые употребляются при идольских службах в тангутском или далайламском законе
-
14) К получению у народов помянутых вещей надлежит запастись товарами 6, которые везде приняты, и оные вещи на те товары выменивать, к тому ни что так способно быть не имеет, как китайской табак или зогар, которые пуда с два из казны в Якуцке требовать можно, а при том надобно за ту прошнурованную за печатью расходную книгу, и сколько за то табаку в расходной книге писать именно, и позже велеть росписываться, дабы потом отчот дать можно было 7
-
15) Ежели где что из вышепоказанных вещей из отдаленных мест в <неразб.> самому ехать неможно, выписать должно, так о промысле вещей иметь старание канцелярии, а при том требовать, чтоб за такие вещи народам платить цену исправно и сколько за ето заплачено будет показать именно
-
16) И таким образом, сколько чего собрано и привезено будет в разные времена присылать в Санктпетербург с показанием цены каждой вещи».
Таким образом, эти документы обеспечивали систематизацию предметов по темам:
-
• мужская и женская одежда;
-
• переносное жилище;
-
• домашняя утварь;
-
• военное и охотничье снаряжение;
-
• музыкальные инструменты и охотничьи рога;
-
• атрибуты религиозного культа;
-
• питание;
-
• народная медицина;
-
• окраска тканей.
Приложение «О рисунках» (прилож. 2) также включало пункты, касающиеся традиционной духовной и материальной культуры. Следовало рисовать как композиции, так и отдельные сюжеты: мужчин и женщин в повседневной и праздничной одежде, с украшениями, за каким-либо занятием; жилища, юрты, интерьеры; утварь; способы и средства передвижения; промысловиков и их снаряжение; воина с вооружением, сцену битвы; состязания в беге, стрельбе и борьбе; свадебную церемонию, родины, похороны; шаманские обряды; буддийских и ламаистских священников, атрибуты и церемонии буддийского культа.
Подобный подход позволял получить обширный подтверждаемый материал для описания, систематизации и сравнения культур различных народов.
Заключение
На основании анализа приведенных выше материалов в истории формирования этнографического собрания Кунсткамеры Императорской академии наук можно вычленить следующие направления развития:
-
• собирание коллекций редких предметов как части жанра путевых дневников или описания путешествия;
-
• сбор предметов традиционной культуры как части целостного, географо-экономического, исторического и культурного описания определенной территории Российской империи;
-
• сравнительный анализ культур различных народов в комплексе наглядного материала этнографических коллекций и систематизированных сведений, собранных по определенной иерархически выстроенной программе.
Список литературы Принципы собирания этнографических коллекций для кунсткамеры Императорской академии наук: от сибирской экспедиции Д. Г. Мессершмидта (1719-1727) до второй камчатской экспедиции (1733-1743)
- Андреев А. И. Труды Г. Ф. Миллера о Сибири // Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. Т. 1. С. 57-144.
- Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. М.; Л.: Наука, 1965. Вып. 2: XVIII век (первая половина). 365 с.
- Дриссен-ван хет Реве Й. Голландские корни Кунсткамеры Петра Великого: история в письмах (1711-1752). СПб.: Изд-во МАЭ РАН, 2015. 364 c.
- Зиннер Э. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII века. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. 250 с.
- Косвен М. О. Этнографические результаты Великой Северной экспедиции 1733-1743 гг. // Сибирский этнографический сборник. 1961. Вып. 3. С. 166-212.
- Летопись Кунсткамеры. 1714-1836 / Авт.-сост. М. Ф. Хартанович, М. В. Хартанович; отв. ред. Н. П. Копанева, Ю. К. Чистов. СПб.: МАЭ РАН, 2014. 740 с.
- Материалы для истории Императорской Академии наук. СПб.: Тип. Имп. АН, 1885. Т. 1. 732 c.; 1886. Т. 2. 912 c.; 1886. Т. 3. 898 c.; 1887. Т. 4. 824 c.; 1889. Т. 5. 1067 c.; 1895. Т. 7. 672 c.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. Т. 1. 664 с.
- Напольских В. В. Удмуртские материалы Д. Г. Мессершмидта. Дневниковые записи, декабрь 1726 г. Ижевск: Удмуртия, 2001. 224 с.
- Новлянская М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт. Л.: Наука, 1970. 184 с.
- Пекарский П. П. История Императорской Академии наук в Петербурге. СПб.: Тип. Имп. АН, 1870. Т. 1. 774 с.
- Путешествие по указу Петра I. Из дневника Д. Г. Мессершмидта - исследователя народов Сибири. 1721-1725 гг. // Исторический архив. 2003. № 2. C. 21-40.
- Элерт А. Х. Народы Сибири в трудах Г. Ф. Миллера. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. 240 с.
- Элерт А. Х. Источники по формированию этнографической коллекции Кунсткамеры участниками Второй Камчатской экспедиции // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: История. 2018. Т. 23. С. 97-111.
- Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien 1720-1727. Verbindung mit Zahlreichen Fachgelehrten Herausgegeben von E. Winter, G. Uschmann und G. Jarosch. Berlin, Akademie-Verlag, 1968, Bd. 4: Tagebuchaufzeichnungen, Februar 1725 - November 1725, 284 S.; 1977, Bd. 5: Tagebuchaufzeichnungen ab November 1725. Gesamtregister, 156 S.