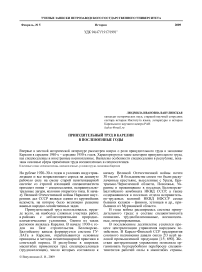Принудительный труд в Карелии в послевоенные годы
Автор: Вавулинская Людмила Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5 (98), 2009 года.
Бесплатный доступ
Впервые в местной исторической литературе рассмотрен вопрос о роли принудительного труда в экономике Карелии в середине 1940-х - середине 1950-х годов. Характеризуются такие категории принудительного труда, как спецпоселенцы и иностранные военнопленные. Выявлены особенности спецпоселения в республике, показаны основные сферы применения труда военнопленных и спецпоселенцев.
Спецпоселенцы, военнопленные, условия труда, экономика карелии
Короткий адрес: https://sciup.org/14749537
IDR: 14749537 | УДК: 94(47)"1917/1991"
Текст научной статьи Принудительный труд в Карелии в послевоенные годы
На рубеже 1920–30-х годов в условиях индустриализации и все возрастающего спроса на дешевую рабочую силу на смену старой пенитенциарной системе со строгой изоляцией спецконтингента приходит новая – спецпоселения, исправительнотрудовые лагеря, колонии открытого типа. К началу Великой Отечественной войны Наркомат внутренних дел СССР являлся одним из крупнейших ведомств, на которое было возложено решение важных народно-хозяйственных задач.
Принудительный труд использовался, прежде всего, на наиболее сложных участках работ, в районах с неблагоприятными природноклиматическими условиями. Одним из таких регионов являлась Карелия. В начале 1930-х годов на базе строительства БеломорскоБалтийского канала формируется система ГУЛАГа в Карелии, отрабатываются основные принципы и методы пенитенциарной практики в советский период. В республике в широких масштабах применялся труд спецпереселенцев (трудпоселенцев), число которых составляло к
началу Великой Отечественной войны почти 30 тысяч1. В большинстве своем это были раскулаченные крестьяне, выселенные с Урала, Центрально-Черноземной области, Поволжья, Украины и проживавшие в поселках БеломорскоБалтийского комбината НКВД СССР, а также содержавшиеся в поселках отдела исправительно-трудовых колоний НКВД КФССР семьи бывших кулаков – финнов, эстонцев и др., прибывших из Мурманской области.
В годы войны расширилась система принудительного труда: в составе спецконтингента появились трудмобилизованные, военнопленные, интернированные.
В послевоенное десятилетие усилился процесс централизации управления народным хозяйством. В Карело-Финской ССР предприятия союзного подчинения давали около 2/3 всей валовой промышленной продукции [15; 690]. Жесткая централизация управления позволяла организовать бесперебойную переброску спецкон-тингентов рабочей силы в масштабах страны.
В условиях острой нехватки рабочих и специалистов в Карелии насильственная миграция призвана была сыграть немаловажную роль в решении задач восстановления и дальнейшего роста промышленного производства.
Изучение проблем использования в республике принудительного труда в 1940–50-е годы представляет особый интерес в связи с тем, что если в масштабах страны и отдельных регионов эти вопросы уже получили всестороннее освещение [1], [6], [9], [10], [11], [12], [17], [18], [27], то в Карелии они исследовались только применительно к периоду 1920–30-х годов [4], [5], [14], [20], [21], [22], [24], [25]. Участие же «спецконтингента» в восстановлении и развитии экономики края в послевоенные годы еще не стало предметом специального изучения и получило освещение лишь в сборниках документальных материалов и статьях В. Т. Двинской и Л. И. Вавулинской [3], [8], [23], [26].
В статье на основе введения в научный оборот комплекса ранее не публиковавшихся архивных документов освещаются новые страницы послевоенной истории республики, связанные с участием спецпоселенцев и иностранных военнопленных в восстановлении и развитии экономики республики (другие категории принудительного труда не рассматриваются, в частности заключенные, интернированные, трудмобилизованные).
Лесная промышленность была выделена как приоритетная в послевоенных планах развития народного хозяйства республики, так как стране нужен был лес для восстановления предприятий и учреждений, строительства жилья. КарелоФинская ССР являлась важным источником снабжения крепежным лесом Донецкого и Подмосковного угольных бассейнов, крупной базой лесопиления на внутренний рынок и на экспорт.
Война нанесла огромный урон лесозаготовительным предприятиям республики. Полностью прекратили свою деятельность 40 из 46 леспромхозов, на 80 % сократились основные средства производства, на 95 % – автомобильный и тракторный парк. Лесная промышленность республики в 1946 году насчитывала лишь 4,3 тыс. постоянных рабочих, то есть в три раза меньше, чем в 1940 году [16; 113, 129]. Наращивание объемов лесозаготовок в республике требовало поступления все новых партий рабочей силы.
В мае 1944 года были расширены права органов НКВД на местах в области заключения договоров о трудовом использовании спецпереселен-цев – бывших кулаков: теперь эти договоры, в том числе и на количество свыше 500 человек, утверждались руководством НКВД/УНКВД без представления их в Отдел спецпоселений НКВД СССР2. Важным шагом в урегулировании трудового использования бывших кулаков (до весны 1946 года они были единственной категорией спецпере-селенцев в республике) явилось прекращение с 1 сентября 1944 года 5%-го удержания с их заработной платы на расходы по административному управлению и надзору, установленного Постановлением СНК СССР от 1 июля 1931 года.
Особое внимание при использовании предприятиями труда спецпереселенцев обращалось на соблюдение режима спецпоселения.
Спецпереселенцы не имели права без разрешения коменданта отлучаться за пределы района расселения, обслуживаемого данной спецкомен-датурой. Самовольная отлучка рассматривалась как побег и влекла за собой ответственность в уголовном порядке. 6 декабря 1944 года Отделение спецпоселений НКВД КФССР направило в адрес наркоматов и ведомств письмо, предупреждавшее, что в случае невыполнения хозор-ганами требований режима спецпоселений ра-бочие-спецпереселенцы будут отозваны3.
В четвертом квартале 1946 года на учете в республике состояло 3811 спецпоселенцев (бывших кулаков), из них трудоспособных – 2619 человек (68,7 %). Наибольшая их часть работала на предприятиях Министерства речного флота (962 человека), Министерства земледелия (588 человек), лесной промышленности (427 человек), Министерства промышленности строительных материалов (392 человека), Промсовета КФССР (217 человек), Министерства животноводства (204 человека), на предприятиях коммунального хозяйства (138 человек) и т. д. По половозрастному составу спецпоселенцы распределялись следующим образом: 1407 мужчин и 1433 женщины. Детей до 16 лет насчитывалось 971 человек (25 % от общего числа спецпоселенцев)4.
В отчетах о работе Отделения спецпоселе-ний МВД КФССР неоднократно отмечались добросовестное отношение большинства спец-поселенцев к труду, систематическое перевыполнение ими норм выработки. Так, в отчете за второй квартал 1946 года подчеркивалось, что «большая часть спецпоселенцев является хорошими специалистами, добросовестно относится к работе, поэтому организации ими очень дорожат, и при поступлении новой партии спецпосе-ленцев каждая организация добивается выделения прибывших спецпоселенцев»5.
Бывшие кулаки находились на спецпоселении в Карелии с конца 1920–30-х годов, за это время они адаптировались к жизни в условиях Севера, обзавелись семьями, хозяйством. В экстремальных военных условиях и обстановке послевоенной разрухи добросовестный труд являлся для многих бывших кулаков достойным вкладом в общее дело победы над врагом и восстановления разрушенного народного хозяйства. Так, в Маленгском лесопункте были представлены к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов» 78 из 82 спецпоселенцев – бывших кулаков6. В Прионежском районе КФССР в числе отличников лесной промышленности было 9 спецпереселенцев, получивших премии и подарки. 8 спецпоселенцев-колхозников района выработали в 1945 году от 400 до 500 трудодней7. Неоднократно премировались и заносились на Доску почета республиканской газеты «Ленинское знамя» спецпереселенцы-трактористы Повенецкой и Тунгудской МТС.
В условиях тяжелого материального положения перевыполнение производственных норм давало возможность получения дополнительных средств или определенных преимуществ для содержания семей бывших кулаков.
Многие спецпоселенцы прошли профессиональную подготовку и приобрели специальности. Документы местных архивов убедительно свидетельствуют о том, что в условиях острой нехватки рабочей силы в республике после войны спецпо-селенцы часто являлись единственными специалистами в своей области. Так, заместитель наркома местной промышленности КФССР обратился в апреле 1945 года в Наркомат внутренних дел КФССР с просьбой о разрешении переезда спе-циалистов-трудпоселенцев Надвоицкой мебельной фабрики на организуемое мебельное и спичечное производство в г. Сортавала8. В феврале 1946 года по просьбе начальника Управления Беломорско-Онежского пароходства Новоселова НКВД КФССР разрешил въезд и проживание в г. Петрозаводске сроком на 2 месяца 15 специали-стам-трудпоселенцам, находившимся в Беломорске и Надвоицах, для выполнения котельных и плотничных работ на Петрозаводском судоремонтном заводе. На том же заводе был продлен срок работы до 1 апреля 6 специалистам-котельщикам, с отъездом которых неизбежно остановились бы работы по ремонту судов9. В июле 1945 года НКВД КФССР разрешил направить трудпоселенцев из пудожского совхоза № 1 – бригадира по крупному рогатому скоту М. Ф. Величко и бригадира по свиноводству А. В. Дубровину – в Петрозаводск для сопровождения скота, который перебазировался из Пудожа в совхозы Сортавальского и Питкярантского районов10.
Зачастую администрация предприятий на свой страх и риск разрешала хорошо зарекомендовавшим себя на работе спецпоселенцам выехать на короткий срок на родину в связи с семейными обстоятельствами, направляла их в командировки в другие районы республики, исходя из производственной необходимости. Часть спецпоселенцев была выдвинута на руководящие должности, среди них: мастер цеха газогенераторного завода К. Е. Кучернюк, работники Беломорско-Онежского пароходства: старший механик И. Ф. Омельчак, мастер кузнечного цеха Г. К. Боровик, начальник лесоцеха П. И. Кондратьев, мастер по производству судов Н. А. Цыганков, старший электрик В. К. Сепп и др.
В то же время из ряда районных органов НКВД поступала негативная информация о работе спецпоселенцев, бывших кулаков. Так, в письме начальника Пудожского РО НКВД начальнику Отделения спецпоселений НКВД КФССР от 27 декабря 1944 года сообщалось о том, что «в совхозе № 1 переселенцы буквально разложились, массовое воровство (хищение хлебопродуктов и обдаивание коров у населения г. Пудожа) стали обыденным явлением. Переселенцы в этом совхозе все устроились на легкие работы, как-то: бригадирами, кладовщиками и в большинстве своем не занимаются физическим трудом, а когда дело доходит до уборки урожая, то совхоз обрабатывается мобилизованными гражданами г. Пудожа. Кроме того, – продолжает автор письма, – я еще считаю ненормальным и такое положение, когда в советском хозяйстве один директор является вольнонаемным, а все остальное руководство и работа передоверена кулакам. Надо взять оттуда часть рабочих и перевести на лесозавод…»11.
Серьезной проблемой в организации труда и быта спецпоселенцев оставалась мобилизация с постоянного места жительства для работы на других предприятиях. В директиве заместителя народного комиссара внутренних дел СССР Наркомату внутренних дел КФССР (1944 г.) отмечалось: «Имеют место факты, когда органы НКВД по постановлениям местных советских органов проводят без санкции НКВД СССР мобилизацию спецпереселенцев на работу в промышленные предприятия, стройки и городские организации.. Это приводит к тому, что трудоустроенные семьи спецпереселенцев, получившие жилые, приусадебные и земельные участки, засеявшие огороды, при их мобилизации все это теряют и попадают в крайне тяжелые условия. НКВД СССР категорически запрещает проводить какие бы то ни было мобилизации спецпе-реселенцев с их постоянного места жительства (расселения). Мобилизация спецпереселенцев может проводиться только по указанию и с разрешения НКВД СССР»12.
Проходивший более активно после окончания войны процесс освобождения из спецссылки бывших кулаков (участников войны и членов их семей, детей спецпоселенцев, достигших 16 лет и др.) вызвал беспокойство со стороны руководства предприятий, на которых работали спец-поселенцы. Получив документы на освобождение из спецссылки, бывшие кулаки требовали увольнения с работы и разрешения выезда на родину или к избранному месту жительства. В связи с этим МВД КФССР разъяснило директорам предприятий, что освобождать от работы можно только тех спецпоселенцев, которые освобождены по инвалидности или выезжают на соединение с семьей как лица, не имеющие средств существования. Остальные спецпосе-ленцы могли увольняться с работы только на общих основаниях со всеми гражданами и несли равную ответственность за самовольный уход с работы13. Таким образом, по существу получившие освобождение, бывшие кулаки оставались закрепленными за предприятиями.
В мае 1947 года все спецпоселенцы, бывшие кулаки, расселенные на территории КФССР, были освобождены из спецпоселений (за исключением лиц, оставленных на спецпоселении по национальному признаку). В Карело-Финской ССР это произошло раньше, чем в ряде других регионов страны, где окончательно ограничения по спецпоселению бывших кулаков были сняты постановлением Совета Министров СССР от 13 августа 1954 года. Освобожденные спецпосе-ленцы получили паспорта без ограничений, на общих основаниях. Таким образом, контингент спецпоселенцы – «бывшие кулаки» на территории республики перестал существовать. Всего на 1 июля 1947 года было снято с учета и освобождено 2068 семей (3812 человек)14. Большинство их, по сведениям Отделения МВД КФССР, остались жить и работать в Карелии.
Широко использовался в послевоенные годы труд иностранных военнопленных. В республике были организованы 4 лагеря для военнопленных, управления которых находились в Сегеже (№ 212), Петрозаводске (№ 120), Питкяранте (№ 166) и Пудоже (№ 447). На 1 июля 1946 года в 4 лагерях и двух спецгоспиталях насчитывалось 23579 военнопленных, в основном немцев, а также венгров, австрийцев, румын и прочих15. Отличительной особенностью лагерей военнопленных на Европейском Севере являлось то, что они фактически заменили лагеря ГУЛАГа, большинство из которых было расформировано к 1947 году [18; 52]. В Карело-Финской ССР основной контингент заключенных ГУЛАГа был эвакуирован в другие лагеря страны в годы Великой Отечественной войны [7; 283].
Ситуация с трудовым использованием военнопленных на первых порах была крайне сложной из-за физического состояния контингента, недостаточной готовности лагерей, трудностей с обеспечением их продовольствием и обмундированием, акклиматизацией военнопленных. В лагере № 212 в декабре 1944 года на работу выходило 50–60 % военнопленных. В январе 1946 года из общего числа военнопленных 3889 человек, находившихся на лесозаготовительных работах Наркомлеса республики, на работу выходило 50 %, а в первой декаде февраля – 32 % списочного состава. При этом средняя выработка дневных норм составляла 30 % от плановой, а по отношению ко всему списочному составу военнопленных – 15 %16. В строительных организациях республики в начале 1947 года военнопленные и заключенные составляли более 2/3 от общего числа работавших. В первом полугодии 1946 года средняя производительность одного военнопленного по Строительному управлению при Совете министров республики составляла 71 %17.
Нередко ослабленные военнопленные использовались на тяжелых работах. В лагерном отделении «9-й квартал» Пудожского лагеря № 447 военнопленные, отнесенные по своему физическому состоянию к третьей категории, работали в карьере на строительстве дороги. До места работы и обратно они добирались пешком, проходя до 10 км. Не будучи способными выполнять нормы выработки, они не получали до- полнительного питания. Естественно, что через короткое время многие из них оказывались в оздоровительной команде или в госпитале. Как свидетельствуют архивные документы, довольно часто дополнительные продукты, положенные перевыполнявшим нормы военнопленным, не выдавались или поступали в общий котел. Бывали случаи вывода военнопленных на работу без обуви (ст. Ильинское Олонецкого района), в результате чего имели место два случая тяжелого заболевания со смертельным исходом.
На ряде предприятий, использовавших труд военнопленных, вошло в систему занижение процентов выработки спецконтингента. Так, на Питкярантском бумажном комбинате ежедневно работали 14 бригад в составе 315–320 человек, в среднем выполнявшие норму на 101–120 %, что давало им право на получение дополнительного питания. Однако по указанию врио директора предприятия нормы выработки были снижены на 10–40 % якобы на основании того факта, что «немцы тихо вообще работают, мы много за них уплатили денег, а работы не видно, чего их жалеть». Аналогичная ситуация сложилась на объектах бумажного комбината в Харлу, где при исчислении заработка военнопленных за ноябрь 1945 года вместо 33 тыс. руб. было выплачено 2 тыс. руб.18
Труд военнопленных широко использовался на восстановлении и строительстве производственных, культурно-бытовых и жилищнокоммунальных объектов республики. В 1946 году по республиканскому и местному хозяйству в промышленности Петрозаводска было занято до 18 %, а в строительстве – до 70 % так называемого спецконтингента. На многих предприятиях Петрозаводска в начале 1947 года военнопленные составляли основную часть рабочей силы: на судостроительном заводе № 789 – 70 %, металлозаводе – 54 %, газогенераторном заводе – 42 %, Сулажгорском кирпичном заводе – 80 %19. На большинстве объектов и во всех строительных конторах военнопленные трудились совместно с вольнонаемными рабочими, в смешанных бригадах, причем военнопленным поручались наиболее трудоемкие и низкооплачиваемые работы. Нередко военнопленные работали только под присмотром мастеров и бригадиров, а специалисты-военнопленные использовались как технические руководители на стройках.
Прораб Пудожской районной стройконторы М. П. Агеев так оценивал работу военнопленных: «По утрам ко мне приводили под конвоем 50 пленных. Они всегда были в форме вермахта. Бригадиром у них был полковник Крейс, других я не знал. Жили они в транспортном городке. Там их было больше. Работали они и в леспромхозе, чистили берега. Жилось им, наверное, не хуже, чем нашим людям. А ведь в Пудоже было голодно. И они, пленные, таскали с огородов картошку и доили чужих коз. Это были крепкие, здоровые мужчины. Они не знали, когда их освободят, и трудились без охоты. “Если бы мы знали, – говорили они, – когда нас освободят, то построили бы клуб за год”» [28; 40].
Архивные документы свидетельствуют о том, что нередкими были случаи сознательного истощения организма, членовредительства со стороны военнопленных, не желавших выходить на работу, гораздо реже отмечались факты скрытого и прямого саботажа и вредительства – порчи оборудования, кражи деталей и т. п. Многие военнопленные отрицательно относились к перевыполнению норм своими соплеменниками. Военнопленный Хааг Вили говорил: «Если бы мы жили дружно, то русские не могли бы заставить нас работать. Есть военнопленные, которые перевыполняют нормы, но они не понимают, что этим самым отнимают хлеб у тех, кто недовыполняет [нормы]. Нам положено 600 граммов хлеба в день, и мы их получим, если прижмем тех, кто перевыполняет нормы, чтобы они не работали больше других. Только тогда мы избавимся от русского «давай, давай»20.
На многих предприятиях труд спецпоселен-цев и военнопленных использовался неэффективно из-за недостатков в организации труда: плохо был поставлен учет выполненной работы, своевременно не выдавались наряды, много времени затрачивалось на ожидание транспорта для переезда к месту работы и обратно, нередки были случаи необеспеченности инструментами21.
В 1946–1947 годах производственные показатели лагерей для военнопленных стали улучшаться. Этому способствовали осуществленные меры по оздоровлению военнопленных, завершению обустройства лагерей, улучшению организации труда спецконтингента, а также отправка на родину больных и ослабленных военнопленных. Степень самоокупаемости лагерей в целом по стране составила в 1946 году 93,5 % против 76,5 % в 1945 году [6; 177].
В середине 1946 года в лагере № 120 среднесписочный состав контингента военнопленных составлял 8809 человек, а трудовой фонд – 7064 человека. Выработка на человеко-день составила 11,13 руб. при плане 11 руб., а производительность труда – 93,5 % от плановой22. В лагере для военнопленных № 447 в марте 1947 года на оплачиваемые работы выводилось 680 человек, а в мае – 1404 человека (88 % трудового фонда)23. На 1 января 1947 года в 4 лагерях военнопленных, расположенных на территории республики, нормы выработки не выполнял 31 % контингента (4927 человек), но в результате перевыполнения норм остальными военнопленными средняя производительность труда составляла 106,6 %24.
Руководство республики неоднократно обращалось с просьбами в высшие органы власти страны о выделении дополнительных спецкон-тингентов рабочей силы. Распоряжением Совета министров СССР от 6 апреля 1946 года МВД СССР было разрешено направить в КарелоФинскую ССР 4250 спецпереселенцев-«власов-цев», из них 2250 человек – в целлюлозно-бумаж- ную и 2000 – в лесную промышленность. Распоряжением Совета министров СССР от 9 апреля 1946 года для работы в лесной промышленности республики дополнительно выделены 1075 человек. Кроме того, 675 человек были направлены на предприятия Главснаблеса и 389 – на лесозаготовки Управления военного строительства. Таким образом, на работу в КФССР прибыли 6389 спецпереселенцев25. Этого количества рабочих было недостаточно для выполнения напряженных планов лесозаготовок, и местные власти обратились в МВД СССР с просьбой о выделении для республики еще 2 тыс. спецпере-селенцев, однако эта просьба не была удовлетворена.
В отличие от многих других краев, областей и республик страны, высылка депортированных по национальному признаку в Карелию в послевоенные годы не получила широкого распространения, что, видимо, объяснялось пограничным расположением республики. Если в Коми АССР, Архангельской и Вологодской областях преобладающей в количественном отношении категорией спецпоселенцев являлись немцы, то в Карело-Финской ССР – «власовцы». К этой категории спецпоселенцев, помимо лиц, служивших (как правило, рядовыми) в строевых формированиях фашистской Германии и ее союзников, в полиции и органах оккупационной администрации, была отнесена часть побывавших в фашистском плену советских офицеров. Постановлениями ГОКО от 18 августа 1945 года, СНК СССР от 21 декабря 1945 года и Совета министров СССР от 29 марта 1946 года они отправлялись из проверочно-фильтрационных лагерей НКВД на спецпоселения сроком на 6 лет. Семьи «власовцев» не выселялись. Статус спецпоселенцев для «власовцев» не был наследственным. Дети, родившиеся в их семьях, считались свободными с момента рождения. Родные и близкие, добровольно прибывавшие в места поселения для совместной жизни с «власовцами», на учет спецпоселения не ставились.
В отличие от Коми АССР, Архангельской и Вологодской областей, в Карелии не было спецпоселенцев-«оуновцев» (оуновцы от ОУН – «Организация украинских националистов»), зато в единственной из республик и областей Европейского Севера здесь находились спецпоселен-цы-«указники» – выселенные в основном из Украины, а также ряда других республик и областей страны колхозники, ставшие жертвами кампании за укрепление колхозов, выполнение обязательного минимума трудодней. Они выселялись на основании постановления Совета министров СССР от 21 февраля 1948 года «О выселении из Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни» и Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 года «О выселении в отдаленные районы страны лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни». Срок выселения им был определен в 8 лет. Для этих лиц, как и для «власовцев», статус спецпоселен-ца не был наследственным, и родственники, проживавшие с «указниками», на учет спецпо-селений не ставились.
Материалы по результатам проверки жалоб на необоснованность выселения «указников» из родных мест показывают, что во многих случаях из колхозов выселяли инвалидов труда, людей, которые из-за болезни, наличия малолетних детей не могли выработать установленного минимума трудодней. Предъявленные же им обвинения в спекуляции и ведении паразитического образа жизни при проверке не подтвердились.
Таким образом, важной особенностью спец-поселений послевоенных лет в республике являлось преобладание социально-политических, а не этнических мотивов переселения. Другой особенностью спецпоселений в республике являлось то, что в Карелии не использовались исправительно-трудовые лагеря и спецстройки МВД в качестве места жительства спецпоселенцев, которых не изолировали от местного населения.
Поступившие в республику в 1946 году более 6 тыс. «власовцев» были определены на работу, главным образом, в лесную промышленность республики. Однако пополнение леспромхозов кадрами зачастую не решало проблемы отрасли из-за недостатков в организации труда, слабой технической вооруженности предприятий. Отмечались случаи, когда администрация предприятий самовольно поднимала нормы или снижала расценки, задерживала заработную плату, не выдавала наряды на работы и расчетные книжки. Органам МВД приходилось оказывать давление на местных хозяйственных руководителей, чтобы пресечь тенденцию к дискриминации в оплате труда спецпоселенцев по сравнению со свободными рабочими и служащими.
Много недостатков имелось в материальнобытовом устройстве спецпоселенцев. Так, в приказе по Министерству лесной промышленности Карело-Финской ССР о состоянии и мероприятиях по улучшению бытового и трудового устройства вновь прибывших рабочих спецконтингента от 29 августа 1946 года отмечалось: «Как показала проверка, произведенная Министерством в период с 16 по 22 августа на Пайском, П[яжиево]-Сельгском, Шуйско-Виданском и Вирандозер-ском мехлесопунктах, в вопросах бытового и трудового устройства прибывших рабочих имеются крайне недопустимые явления. На Вирандозер-ском мехлесопункте рабочим выдали 380 матрацев, однако рабочие спят на голых досках, потому что матрацы не набиты сеном; на П[яжиево]-Сельгском МЛП при проверке обнаружено 50 матрацев, в то же время рабочие спят на голых нарах. На этом же предприятии 16 человек рабочих спят на чердаке на полу. На Маленгском
МЛП ряд общежитий не имеет уборщиц, во всех общежитиях грязно. На П[яжиево]-Сельгском, Пайском, ряде других предприятий в общежитиях нет кипяченой воды, прачечные не работают, не хватает столов, скамеек, отсутствует освещение. В столовых и котлопунктах также нет порядка: на П[яжиево]-Сельгском МЛП имеет место приготовление недоброкачественной пищи, на Вирандозерском МЛП имеется достаточное количество мисок и ложек, но они лежат на складе, поэтому рабочие вынуждены получать пищу в котелках, ковшах, консервных банках и прочей посуде. Раздача пищи утром и вечером занимает очень много времени…
Не на всех предприятиях функционируют бани, на некоторых участках не оборудованы дезо-камеры (Маленга, уч[асток] Ухта), не организована стирка белья. А поэтому имеет место вшивость. ГУРс (Главное управление рабочего снабжения. – Л. В. ) не обеспечил торговлю вновь прибывшим рабочим табака и мыла. Плохо поставлено дело с медицинским обслуживанием рабочих… Все эти и многие другие недостатки привели к текучести спецконтингента: с П[яжиево]-Сельгского МЛП сбежало – 51 человек, с Шуйско-Виданского МЛП – 30 человек, с Вирандозерского МЛП – 37 человек, с Маленгского МЛП – 35 человек»26.
В качестве поощрения за хорошую работу администрация многих предприятий предоставляла передовикам лучшие жилищные условия, им в первую очередь выдавались обувь и одежда, выделялось дополнительное питание за счет подсобного хозяйства. Это являлось весомым стимулом к производительному труду. На Маленгском лесопункте из 350 человек, занятых на заготовке и вывозке леса, 108 человек выполняли нормы на 100–110 % и 40 человек – свыше 110–150 %. На Вирандозерском лесопункте из 700 спецпоселен-цев, занятых на основных лесозаготовительных работах, 412 человек выполняли нормы выработки на 100–130 %. На Сегежском бумкомбинате из 340 человек, занятых на основных работах, 303 человека выполняли и перевыполняли установленные нормы выработки27.
В 1948 году в республику прибыло новое пополнение спецпоселенцев – «указники». 2/3 «указников» и членов их семей (1056 человек из 1601) были направлены в лесную и целлюлознобумажную промышленность Карелии. Выселенные из колхозов крестьяне, среди которых было немало инвалидов и пожилых людей, не имели навыков работы в лесу, что вызывало существенные трудности в адаптации этой категории спецпоселенцев к труду. Не случайно из общего числа «указников» имелись 98 человек плохо работавших, из них в системе лесной промышленности – 8928.
Крайний недостаток рабочей силы в республике нередко побуждал руководство предприятий закрывать глаза на те или иные нарушения трудовой дисциплины. В связи с этим руководство МВД республики указало директорам предприятий: «…в ряде районов спецпоселен-цы-“указники” совершают прогулы, которые в большинстве проходят безнаказанно, так как руководители предприятий не оформляют на них материалы и не возбуждают дел перед нарсудами о привлечении прогульщиков к уголовной ответственности по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года. <…> Обязать всех руководителей предприятий и хозяйственных организаций, чтобы каждый случай прогула, допущенный спецпоселенцами-“указниками” без уважительных причин, в течение 48 часов оформлялся соответствующими материалами с передачей в нарсуд…»29.
В то же время нередкими были случаи злоупотребления служебным положением со стороны администрации предприятий. Так, в ходе проверки состояния трудоустройства и жилищно-бытовых условий «указников» органами МВД совместно с представителями Минлеспрома КФССР, проведенной в 1949 году в Верхне-Выгском и Чупин-ском леспромхозах, были выявлены факты вымогательства денег у спецпоселенцев мастером Валдайского лесопункта Верхне-Выгского леспромхоза, грубого обращения с рабочими вплоть до применения физических мер воздействия. Мастер лесопункта был снят с работы и привлечен к уголовной ответственности30.
В январе 1950 года спецпоселенцы в республике распределялись по отраслям народного хозяйства следующим образом: спецпоселенцы-«власовцы» в основном были трудоустроены на предприятиях Министерства лесной и целлюлозно-бумажной промышленности – 2693 человек из 3755, Министерства промышленности строительных материалов – 151, в леспромхозе Ленинградского горсовета – 505, на Беломорско-Балтийском канале – 74, в колхозах – 24 и др. «Указники» работали: на предприятиях Министерства лесной и целлюлозно-бумажной промышленности – 841 из 1302 человек, Министерства промышленности строительных материалов – 268, Министерства совхозов – 165, в Стройотделе МВД КФССР – 2531. Таким образом, распределение спецпоселенцев по отраслям народного хозяйства в республике существенно отличалось от их трудового использования в целом по стране, где подавляющее большинство выселенцев и спецпоселенцев было сосредоточено в сельском хозяйстве [29; 137].
Репатриация на родину иностранных военнопленных, освобождение в начале 1950-х годов «власовцев», отбывших 6-летний срок спецпо-селения, а также части «указников» поставило администрацию предприятий в трудное положение. Постановление Совета министров СССР от 7 октября 1951 года предписывало принять меры для закрепления лиц, освобожденных от спец-поселения, на предприятиях лесной промышленности. В приказе министра лесной промышленности СССР Орлова от 13 ноября 1951 года администрации лесозаготовительных предприятий вменялось в обязанность: организовать разъяснительную работу, заключать индивидуальные договоры со спецпереселенцами, распространить на них все льготы и преимущества, установленные для рабочих и служащих отрасли, выдавать ссуды на строительство домов, приобретение хозинвентаря, оказать лицам, освобожденным от спецпоселения и оставшимся на постоянной работе, необходимое содействие в перевозке к ним членов семей [13].
В республике имели место попытки волевыми, административными мерами добиться сохранения за предприятиями рабочей силы из числа спецпоселенцев. Пример тому – транзитная телеграмма министра лесной промышленности республики И. М. Новикова начальникам трестов Севкареллес, Сегежлес и Медвежьегорсклес от 22 июля 1952 года, в которой говорилось: «В соответствии с указаниями МГБ республики рабочие спецконтингента, получающие паспорта, остаются в распоряжении директоров на правах кадровых рабочих. Примите это к неуклонному исполнению, запретив увольнение и выдачу расчетов». Однако спустя неделю министр был вынужден отменить свое распоряжение. Телегра мма от 30 июля 1952 года гласила: «По вопросу использования рабочих спецконтингента разъясняю: после окончания срока все вопросы, связанные с дальнейшей работой и увольнением рабочих, разрешаются директором предприятия в соответствии с существующими законами. Обязываю принять меры к закреплению рабочих постоянного кадра путем разъяснительной работы, также заключения договоров».
К сожалению, по архивным документам практически невозможно определить, какое же количество бывших спецпоселенцев после своего освобождения осталось жить и работать в республике. Тем не менее совершенно очевидно, что в возрождение и развитие экономики республики в послевоенные годы вложена немалая доля их труда.
Сокращение значительного числа спецкон-тингентов и низкая производительность их преимущественно ручного труда привели к тому, что с конца 1940 – начала 1950-х годов ведущую роль в пополнении трудовых ресурсов Карелии стала играть межреспубликанская миграция. Лесная промышленность получила преимущество в пополнении своих предприятий кадрами из Белоруссии, Брянской, Кировской, Костромской, Псковской и других областей страны (сюда поступало более половины всех прибывших рабочих). В первое послевоенное десятилетие в республику ежегодно приезжало более 30 тыс. человек, что значительно превышало общесоюзные темпы прироста населения. В 1949–1955 годах в леспромхозы КФССР прибыло более 90 тыс. человек. Однако из–за неудовлетворительных социально-бытовых условий, невысокой квалификации прибывающих в республику по оргнабору и промышленному переселению высока была текучесть кадров [15; 692]. Тем не менее уже к 1953 году на лесозаготовительных предприятиях рабочие-переселенцы составляли около 50 % общего числа постоянных кадров лесозаготовителей [19; 31].
Таким образом, с помощью принудительного труда в послевоенные годы отчасти удалось решить проблему дефицита рабочей силы в республике, но насколько был эффективен труд спецпоселенцев и военнопленных? По целому ряду причин трудно определить конкретный вклад спецконтингента в развитие экономики страны и региона: на многих предприятиях наряду с вольнонаемными рабочими трудились военнопленные, спецпоселенцы и заключенные, что практически исключает возможность определения доли трудового участия каждой из названных категорий спецконтингента; продукция военнопленных и спецпоселенцев, поставленных по «нарядам» другим ведомствам, не всегда учитывалась за НКВД; они работали, как правило, на самых тяжелых и низкооплачиваемых участках производства; нередкими были случаи приписок или, наоборот, занижения объема выработанной военнопленными продукции со стороны администрации предприятий.
Применение принудительного труда играло существенную роль в экономическом возрождении Карелии. Об этом говорит тот факт, что силами «спецконтингента» МВД в 1946–1947 годах из общего объема капитальных работ, предусмотренных пятилетним планом республики, было выполнено 40 % [32]. Уже в 1949 году промышленные предприятия республики достигли дово- енного уровня выпуска валовой продукции. За 1946–1950 годы промышленное производство в Карелии увеличилось в 4,7 раза, в то время как по РСФСР – в 1,6 раза. К середине 1950-х годов выпуск валовой промышленной продукции в республике превысил довоенный уровень почти в 2,5 раза [2; 201]. Форсированное развитие лесозаготовительной промышленности привело к возникновению сети лесных поселков, в сферу влияния которых вовлекались окружающие деревни. Часть этих поселков создавалась при непосредственном участии спецпоселенцев.
Активные миграционные процессы вели к преображению этнокультурного и демографического облика территории. Общая тенденция изменения этнического состава населения республики в 1939–1959 годах заключалась в росте численности белорусского и украинского населения, а также лиц других национальностей. Определенная доля в их составе принадлежала бывшим спецпоселенцам, оставшимся в республике после своего освобождения.
С точки зрения общечеловеческих ценностей, никакие экономические плюсы, которые дало применение принудительного труда, не могут оправдать крупных социальных издержек, демографических, интеллектуальных и трудовых потерь. Начавшийся в середине 1950-х годов процесс либерализации политической жизни в стране привел к разрушению спецпоселенче-ской системы вследствие ее экономической, политической и социальной несостоятельности.
Список литературы Принудительный труд в Карелии в послевоенные годы
- Бердинских В. Спецпоселенцы: Политическая ссылка народов Советской России. М.: НЛО, 2005. 768 с.
- Вавулинская Л.И. Региональная экономическая политика и особенности развития промышленности Карелии в 1950-1960-е гг.//Промышленная политика в стратегии российских модернизаций XVIII-XXI вв.: Материалы международной научной конференции, посвященной 350-летию Н. Д. Антуфьева-Демидова. Екатеринбург: Институт истории и археологии УРО РАН, 2006. С. 200-203.
- Вавулинская Л.И. Органы управления спецпоселками в Карелии в середине 1940 -середине 1950-х годов//Материалы II межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 85-летию образования Министерства внутренних дел по Республике Карелия (4-5 сентября 2008 года). Петрозаводск: Изд-во Музея истории МВД по Республике Карелия, 2008. С. 99-104.
- Вавулинская Л.И. Массовые репрессии в Карелии в конце 1920-х -первой половине 1930-х гг.//Органы управления уголовно-исполнительной системой и карательная политика государства на Европейском Севере России: Сборник материалов научно-практического семинара (Вологда, 11 апреля 2007 г.). Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2008. С. 25-31.
- ГУЛАГ в Карелии. 1930-1941 гг.: Документы и материалы. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1992. 225 с.
- ГУЛАГ: Экономика принудительного труда. М.: РОССПЭН, 2005. 315 с.
- ГУЛАГ//Карелия: энциклопедия: В 3 т. Т. 1: А-Й. Петрозаводск: ПетроПресс, 2007. С. 283.
- Двинская В.Т. О немцах-военнопленных в Карелии//Вопросы истории Европейского Севера (Проблемы социальной экономики и политики: 60-е годы XIX-XX вв.): Сборник научных статей. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. С. 160-162.
- Зберовская Е.Л. Спецпоселенцы в Красноярском крае (1940-1950-е гг.): Автореф. дисс.... канд. ист. наук. Красноярск, 2006. 17 с.
- Земсков В.Н. Судьба «кулацкой ссылки» (1930-1954)//Отечественная история. 1994. № 1. С. 118-143.
- Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930-1960. М.: Наука, 2003. 306 с.
- Игнатова Н.М. Спецпоселенцы в 30-50-е годы ХХ века (на материалах Коми АССР): Автореф. дисс.... канд. ист. наук. Сыктывкар, 2001. 20 с.
- Игнатова Н. Спецпереселенцы в Республике Коми в 1930-1940 гг.: заселение и условия жизни. http://www.memo.ru/library/books/korni/Chapter5.htm.
- Из истории раскулачивания в Карелии. 1930-1931 гг.: Документы и материалы. Петрозаводск: Карелия, 1991. 296 с.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск: Периодика, 2001. 944 с.
- Клементьев Е.И., Кожанов А.А. Сельская среда и население Карелии 1945-1960 гг. Историко-социологические очерки. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1988. 213 с.
- Конасов В.Б., Кузьминых А.Л. Немецкие военнопленные в СССР: историография, библиография, справочно-понятийный аппарат. Вологда: Вологодский институт развития образования, 2002. 232 с.
- Кузьминых А.Л. Иностранные военнопленные Второй мировой войны на Европейском Севере СССР, (1939 1949 гг.). 2-е изд., испр. и доп. Вологда: Вологодский институт права и экономики, 2005. 392 с.
- Макуров В.Г. Развитие лесной промышленности Европейского Севера СССР в послевоенный период (1946-1955). Петрозаводск: Карелия, 1979. 80 с.
- Макуров В.Г. Беломорско-Балтийский комбинат в Карелии. 1933-1941//Новое в изучении истории Карелии: Сборник статей. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1994. С. 135-159.
- Макуров В.Г. Роль ГУЛАГа в индустриальном развитии Карелии. 1920-1930-е годы//Вклад репрессированных в освоение Европейского Севера России и Приуралья: Материалы регионального научного симпозиума (Сыктывкар, 19 октября 2001 г.). Сыктывкар, 2004. С. 128-135.
- Неизвестная Карелия: Документы спецорганов о жизни республики, 1921-1940 гг. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1997. 368 с.
- Неизвестная Карелия: Документы спецорганов о жизни республики. 1941-1956 гг. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1999. 308 с.
- Никитина О.А. Спецпоселения в Карелии (1931-1932 гг.)//Новое в изучении истории Карелии: Сборник статей. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1994. С. 121-134.
- Никитина О.А. Коллективизация и раскулачивание в Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1997. 132 с.
- Особые папки. Рассекреченные документы партийных органов Карелии. 1930-1956 гг. Петрозаводск, 2001. 189 с.
- Полян П.М. Не по своей воле. История и география принудительных миграций в СССР. М.: ОГИ-Мемориал, 2001. 328 с.
- Смирнов В. Пудож далекий и близкий. Кондопога: Изд-во газеты «Диалог», 1994. 104 с.
- 40-50-е годы: последствия депортации народов (Свидетельствуют архивы НКВД-МВД СССР)/Сост. Н.Ф. Бугай//История СССР. 1992. № 1. С. 122-143.