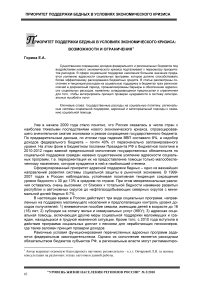Приоритет поддержки бедных в условиях экономического кризиса: возможности и ограничения
Автор: Горина Е.А.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: Публикации докторантов, аспирантов и соискателей
Статья в выпуске: 3 (145), 2010 года.
Бесплатный доступ
Существенное сокращение доходов федерального и региональных бюджетов под воздействием нового экономического кризиса подталкивает к пересмотру приоритетов расходов. В сфере социальной поддержки населения большое значение придается усилению адресности социальных программ, которое должно способствовать более эффективному расходованию бюджетных средств. В статье рассмотрены состояние и тенденции расходов на социальную поддержку в бюджетах трех регионов- ключей в докризисный период, проанализированы барьеры в обеспечении адресности социальных расходов, выявлены складывающиеся предпосылки и ограничения для того, чтобы интегрировать принцип проверки нуждаемости в систему категориальных пособий и льгот.
Государственные расходы на социальную политику, региональные системы социальной поддержки, адресный и категориальный подходы к оказанию социальной помощи
Короткий адрес: https://sciup.org/143181323
IDR: 143181323
Текст научной статьи Приоритет поддержки бедных в условиях экономического кризиса: возможности и ограничения
Уже в начале 2009 года стало понятно, что Россия оказалась в числе стран с наиболее тяжелыми последствиями нового экономического кризиса, спровоцировавшего значительное сжатие экономики и резкое сокращение государственного бюджета. По предварительным данным, по итогам года падение ВВП составило 8%, а недобор доходов федерального бюджета – почти 40% от первоначально запланированного уровня. На этом фоне в Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике в 2010-2012 годах важной предпосылкой исполнения государственных обязательств по социальной поддержке граждан названо существенное усиление адресности социальных программ, т.е. переориентация их на предоставление помощи только малообеспеченному населению, которое нуждается в ней в наибольшей степени.
Сформулированный приоритет адресной поддержки бедных – одно из важнейших направлений развития системы социальной защиты в рыночной экономике. В 19992007 годах в России наблюдалась устойчивая позитивная тенденция сокращения уровня бедности с 30 до 13% в среднем по стране. При этом межрегиональные различия оставались очень высокими: от близких к тотальной бедности наименее развитых республик и автономных округов до нефтегазодобывающих северных округов с минимальной долей бедных 6-7%.
В настоящее время в России действуют три вида социальных программ, направленных на поддержку малоимущего населения и предполагающих контроль уровня доходов получателей: 1) ежемесячное пособие семьям, имеющим детей в возрасте до 16 (18) лет; 2) субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (ЖКУ); 3) адресная социальная помощь, включающая другие меры социальной поддержки малоимущих и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, с 2010 года вступила в действие программа социальных доплат к пенсиям для неработающих пенсионеров, где также заложен принцип проверки доходов.
Рамочные условия функционирования перечисленных адресных программ задаются федеральным законодательством. Однако их исполнение является расходным обязательством бюджетов субъектов РФ, а региональные власти могут регламентиро- вать правила предоставления и размеры выплат. Кроме того, на уровне регионов определяется и характер мер социальной поддержки, предоставляемых независимо от уровня доходов некоторым категориям населения1. В результате, дизайн как адресных, так и категориальных программ, объемы их финансирования, масштабы участия населения в них существенно различаются по регионам. Таким образом, уровень субъектов РФ является ключевым при анализе основных программ социальной поддержки.
Согласно Бюджетному посланию, субъекты РФ должны получить полномочия по разработке и воплощению мер, необходимых для повышения адресности социальной помощи. При этом именно региональные бюджеты несут наибольшие кризисные издержки от потери налоговых доходов и роста социальных обязательств. Экономический кризис, потребовавший оптимизации бюджетных расходов, по-видимому, способен с новой силой «реанимировать» адресный принцип предоставления социальной помощи. В данной статье сделана попытка проанализировать, какие предпосылки и ограничения сложились для этого в настоящее время. Для начала нам потребуется рассмотреть основные характеристики государственных бюджетных расходов на социальную политику, сравнить их тенденции в различных регионах РФ в докризисный период и перспективы вероятных изменений под воздействием кризисных факторов. Задача второй части исследования заключается в том, чтобы выявить и проанализировать возможные направления повышения адресности расходов в рамках действующих в регионах программ социальной поддержки.
Социальные расходы консолидированных региональных бюджетов
Методика анализа бюджетных расходов на социальные цели . Возможности субъектов РФ финансировать свои социальные обязательства резко дифференцированы и определяются, в первую очередь, уровнем доходов региональных бюджетов [1]. Кроме того, приоритеты социальных расходов в субъектах РФ зависят и от политического выбора их властей [2]. Поэтому на первом этапе для сравнительного анализа бюджетных социальных расходов в годы экономического роста мы выбрали три региона-ключа, различающихся как по уровню экономического развития и бюджетной обеспеченности, так и по доминирующему подходу в системе социальной поддержки.
Город Москва входит в число субъектов РФ с наибольшей бюджетной обеспеченностью: в 2007 году собственные душевые доходы столичного бюджета более чем в 2,5 раза превышали средние по регионам РФ. Томскую область можно отнести к относительно развитым регионам. В ее бюджете уровень собственных доходов на душу населения составлял 76% от средних, но федеральные трансферты на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2006-2007 годах в область не поступали. Наконец, Тверская область по уровню экономического развития относится к «срединным» регионам с пониженной обеспеченностью бюджетными доходами (59% от средних по регионам) и является умеренным реципиентом (в 2006-2007 годах 9-10% доходов ее бюджета обеспечивалось федеральными дотациями на выравнивание).
В качестве методической основы при исследовании характеристик социальных расходов региональных бюджетов использовались работы О.В. Кузнецовой [1], Н.В. Зубаревич [2], С.В. Суркова [3]. Информационной базой послужила отчетность Федерального казначейства об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2005-2007 годы. Также были использованы данные законов об исполнении бюджетов субъектов РФ. В соответствии с принятой в России бюджетной классификацией в разряд социальных расходов (расходов на социальные цели) включаются затраты на здравоохранение и физическую культуру, образование, культуру и СМИ, социальную политику. В широком смысле к ним относят и расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), так как они тоже имеют непосредственные эффекты в социальной сфере.
В рамках упомянутых работ объемы финансирования и приоритетные направления социальных расходов в регионах РФ оцениваются по ряду индикаторов и их динамике. Для целей данной статьи при дальнейшем анализе мы будем использовать следующие из них:
-
1) Доля в общих расходах консолидированного бюджета субъекта РФ расходов на социальные цели и в частности расходов по статье «Социальная политика». Этот показатель отражает, какую роль играют социально значимые расходы в региональных бюджетах.
-
2) Объем социальных расходов и расходов по статье «Социальная политика» в расчете на душу населения. Региональные различия значений этих индикаторов не только зависят от финансовых возможностей регионов, но и позволяют судить о приоритетах региональных властей.
-
3) Структура расходов по статье «Социальная политика», которая раскрывает соотношение адресных и категориальных программ в региональных системах социальной защиты населения.
Роль социальных расходов в региональных бюджетах. На этапе экономического подъема (2003-2007 годы) в целом бюджеты российских регионов стали более социально ориентированными: доля расходов на социальные услуги в них выросла с 44 до 53%, а если включить расходы на ЖКХ – с 57 до 70% (таблица 1).
Доля расходов на социальные цели в общих расходах консолидированных бюджетов г. Москвы, Тверской и Томской областей в 2003 и 2007 годах
Таблица 1
|
Регионы |
Социальная политика |
Всего социальные услуги |
Социальные услуги и ЖКХ |
|||
|
2003 г. |
2007 г. |
2003 г. |
2007 г. |
2003 г. |
2007 г. |
|
|
г. Москва |
10 |
11 |
28 |
38 |
43 |
67 |
|
Тверская обл. |
10 |
14 |
51 |
58 |
65 |
73 |
|
Томская обл. |
8 |
13 |
43 |
55 |
55 |
69 |
|
РФ (среднее по регионам) |
9 |
12 |
44 |
53 |
57 |
70 |
Источники: рассчитано по данным Федерального казначейства, закона об исполнении бюджета г. Москвы за 2003 год, а также [3].
Из трех рассматриваемых регионов наибольшей социальной «нагрузкой» отличается бюджет Тверской области: доля социальных расходов была и остается выше среднероссийской. Этот максимум носит, скорее, вынужденный характер, поскольку при пониженной бюджетной обеспеченности Тверская область отличается повышенными потребностями в финансировании социальных услуг (из-за сильного постарения населения и мелкоселенного дисперсного характера расселения в сельской местности). Бюджет Томской области также можно назвать социально ориентированным, хотя по структуре своих расходов он ближе к среднероссийским значениям. Столичный бюджет менее социально нагружен, но для него характерна очень высокая доля затрат на ЖКХ (29% при 17% в среднем). К тому же социальные затраты московского бюджета, максимальные по стране в абсолютном выражении, «теряются» в его колоссальных объемах (бюджет Москвы составляет пятую часть от суммы всех региональных бюджетов страны).
В региональных бюджетах статья «Социальная политика», где сосредоточены почти все трансферты по социальной помощи населению, в структуре расходов уступает другим социальным услугам (образование, здравоохранение) и ЖКХ, хотя за период 2003-2007 годов ее вклад вырос. Этот рост тесно связан с реформами, проводи- мыми федеральным центром. В 2005 году передача субъектам РФ большой части полномочий в сфере социальной поддержки и одновременная замена льгот денежными компенсациями (монетизация) потребовали увеличения расходов региональных бюджетов, зачастую без достаточных источников их финансирования.
Представленные в нашем исследовании регионы неодинаково отреагировали на инициативу федерального центра о монетизации льгот для граждан из числа региональных категорий. Власти Москвы минимизировали монетизацию, сохранив практически все прежние льготы. Более того, некоторые из них (например, право на бесплатный проезд в общественном транспорте) продолжали действовать для более широкого круга лиц. В Тверской области, напротив, уже в 2005 году почти все натуральные трансферты, включая скидки при оплате ЖКУ, были заменены денежными выплатами. Региональным льготникам были оставлены только право на льготный проезд на городском и пригородном общественном транспорте, включая железнодорожный и внутренний водный, а также мало востребованные преимущества по социальному обслуживанию. В Томской области монетизация пошла по наиболее распространенному сценарию: за региональными льготниками было оставлено право на скидки при оплате ЖКУ и на льготный проезд в общественном транспорте. Взамен остальных льгот (по оплате услуг связи, медицинскому и лекарственному обеспечению, по оплате проезда в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и др.) предоставлены относительно высокие ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).
Соответственно, по-разному росла доля социальной политики в бюджетных расходах регионов. В Москве она выросла незначительно, тогда как в Тверской и Томской областях перераспределение расходов в пользу этой статьи было более выраженным (на 5-6 процентных пунктов). Полная монетизация льгот потребовала мобилизации финансовых ресурсов и сместила приоритеты: в 2005 году в Тверской области социальная политика стала второй по величине статьей расходов (после образования). В течение 2006-2007 годов система социальных выплат адаптировалась к изменившимся условиям, что позволило немного снизить нагрузку на бюджет.
Расходы на социальные услуги и, в частности, на социальную политику играют значительную роль в консолидированных бюджетах субъектов РФ. Сколько же могли и готовы были тратить регионы на выполнение своих социальных обязательств в докризисный период? Для ответа на этот вопрос далее мы рассмотрим объемы затрат на душу населения и их динамику в регионах1.
Уровень и динамика душевых социальных расходов в региональных бюджетах. При огромном отрыве Москвы по уровню бюджетной обеспеченности ее душевые социальные расходы только на треть превосходят средние (таблица 2). Однако превышение становится более чем двукратным, если учитывать и затраты на ЖКХ – отрасль, в которой треть всех расходов из бюджетов регионов обеспечивается Москвой. Власти столицы сохраняют высокий уровень дотационности ЖКХ (объем финансирования этой отрасли на душу населения в 4,5 раза выше среднероссийского), что обусловлено как реальными факторами удорожания – огромной протяженностью коммунальных сетей, их изношенностью, так и патерналистской политикой властей [1]. Благодаря такой масштабной поддержке ЖКХ из городского бюджета, жители Москвы возмещают только 64% затрат на оплату ЖКУ (2008 год) при 100-процентном федеральном нормативе – это один минимальных показателей в стране.
В Тверской области, так же, как и в Томской, с более ограниченными возможностями бюджета душевые расходы на социальные цели составляли 79 и 88% от средних по регионам, соответственно. При этом среднее значение сильно завышено из-за высоких расходов бюджетов Москвы и нефтегазодобывающих автономных округов. Меньшие расходы на ЖКХ относительно среднероссийского уровня в обеих областях
(в Тверской области – 61%, а в Томской – 68%) – также отчасти статистический артефакт. Но есть и объективные причины: в этих регионах более активно проводится реформа жилищно-коммунального комплекса, финансовая нагрузка постепенно перераспределяется с государственного бюджета на домохозяйства. Такая политика позволяет не распылять бюджетные средства на поддержку небедных семей. Об этом свидетельствует и номинальный уровень возмещения населением затрат за ЖКУ: в 2008 году он составлял 92% в Тверской области и 96% в Томской.
Таблица 2
Душевые социальные расходы в консолидированных бюджетах г. Москвы, Тверской и Томской областей в 2007 году
|
Регионы |
Социальные услуги |
Социальные услуги и ЖКХ |
Социальная политика |
|
|
на душу населения, тыс. руб.1 |
в % к 2004 г. (в постоянных ценах) |
|||
|
г. Москва |
23,6 |
49,6 |
6,5 |
165 |
|
Тверская обл. |
14,2 |
17,7 |
3,5 |
203 |
|
Томская обл. |
15,8 |
19,7 |
3,8 |
224 |
|
РФ (среднее по регионам) |
17,9 |
23,5 |
4,0 |
171 |
Источники : рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.
Из всех видов бюджетных социальных расходов именно расходы на социальную политику в наибольшей мере нацелены на поддержку уязвимых групп населения и служат важным механизмом борьбы с бедностью. Исследования О.В. Кузнецовой показывают, что чем богаче население региона (больше соотношение денежных доходов и прожиточного минимума), тем больше расходы его бюджета на социальную политику. С одной стороны, более высокий уровень доходов населения характерен для регионов с более высокой бюджетной обеспеченностью, у которых есть возможность тратить больше средств на социальную политику. С другой стороны, при более высоком уровне доходов, как правило, сильнее расслоение населения по доходу, что вызывает необходимость тратить значительные средства на социальную защиту малоимущих [1]. Помимо этого, душевые расходы на социальную политику в регионах с сопоставимым уровнем экономического развития варьируются в зависимости от приоритетов бюджетной политики их властей [2].
В целом межрегиональное неравенство душевых расходов на данную статью в 2007 году достигало 7,2 раза (с поправкой на различия в стоимости жизни). На фоне других регионов все так же лидирует столица, где на социальную политику в расчете на одного жителя затрачивается объем ресурсов, в 1,6-1,8 раза превышающий среднероссийский уровень. Благодаря максимальным расходам бюджета на социальную политику, обеспеченность жителей Москвы социальными услугами, льготами и другими видами помощи гораздо выше, чем в других регионах России.
В Тверской и Томской областях реформирование системы социальной защиты сопровождалось значительным ростом финансирования: к 2007 году душевые расходы увеличились более чем вдвое. При этом в Тверской области в первые два года после преобразований темпы роста были одними из самых быстрых в стране. Такую динамику можно расценивать позитивно, но достигнуто это было сверхнапряжением бюджета и относительным сокращением других социально значимых расходов. Уже в 2007 году темпы роста резко замедлились и были в числе минимальных по стране. В Томской же области быстрые темпы роста сохранялись, что дало возможность поддерживать достаточно высокий уровень душевых расходов, близкий к среднему по РФ.
Структура расходов региональных бюджетов на различные программы социальной поддержки . Рассмотрев уровень и динамику бюджетных затрат на социальную политику в регионах, мы можем приступить к вопросу о приоритетах финансирования в этой сфере. В таблице 3 представлена структура расходов региональных бюджетов в 2006-2007 годах по разделу «Социальная политика». Здесь учитываются все меры социальной поддержки, реализуемые через региональные системы социальной защиты (льготы, выплаты, социальное обслуживание), независимо от того, кто несет расходные обязательства по ним – субъекты РФ или сама Российская Федерация (из общей суммы исключены расходы на обеспечение деятельности органов управления).
Таблица 3
Доля расходов на реализацию категориальных, адресных и других мер социальной поддержки в расходах на социальную политику консолидированных бюджетов г. Москвы, Тверской и Томской областей, %
|
Виды программ социальной поддержки |
2006 г. |
2007 г. |
2006 г. п 2007 г. |
2006 г. п 2007 г. |
||
|
г. Москва |
Тверская обл. |
Томская обл. |
||||
|
Социальная поддержка льготных категорий граждан по расходным обязательствам субъектов РФ: |
10,7 |
10,0 |
18,7 |
17,2 |
27,4 |
23,8 |
|
ветеранов труда и тружеников тыла |
10,4 |
9,7 |
18,3 |
16,8 |
25,0 |
21,5 |
|
жертв политических репрессий |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
2,4 |
2,3 |
|
Адресные социальные программы: |
47,6 |
41,8 |
17,5 |
15,0 |
17,9 |
14,7 |
|
детские пособия |
2,2 |
3,3 |
5,2 |
4,6 |
4,8 |
4,1 |
|
жилищные субсидии |
6,7 |
5,1 |
10,5 |
8,6 |
13,1 |
10,5 |
|
адресная социальная помощь |
38,7 |
33,4 |
1,8 |
1,8 |
- |
- |
|
Социальное обслуживание населения |
10,9 |
11,9 |
20,8 |
19,9 |
18,5 |
15,1 |
|
Другие программы социальной помощи: |
30,7 |
36,2 |
43,0 |
47,9 |
36,2 |
46,4 |
|
социальная поддержка льготных категорий граждан по расходным обязательствам РФ |
13,0 |
10,8 |
19,7 |
18,9 |
9,6 |
9,0 |
|
Всего расходы на социальную политику (без расходов на содержание органов управления) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Источники: рассчитано по данным Федерального казначейства и региональных законов об исполнении бюджетов субъектов РФ за соответствующие годы.
Прежде всего, обращает на себя внимание, что соотношение основных социальных программ адресного и категориального характера, которые исполняются по расходным обязательствам субъектов РФ, сильно варьируется по регионам. Особенно выделяется Москва, где доля адресных программ в расходах на социальную политику превышает 40%, тогда как в Тверской и Томской областях их вклад значительно меньше. Огромный перевес расходов по статье «адресная социальная помощь» в столице обусловлен тем, что здесь функционирует специальная сверхзатратная программа доплат к пенсиям 2 млн неработающих и некоторым категориям работающих московских пенсионеров и инвалидов. Им ежемесячно доплачивается сумма, «дотягивающая» их доходы до гарантированного уровня (до 2008 года – до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в Москве, а к концу 2009 года – до двукратной величины ПМП).
Это самая масштабная по охвату и объему расходов программа социальной защиты в Москве: исполнение столичного бюджета с большим профицитом позволили быстро наращивать ее финансирование в 2006-2008 годах. С одной стороны, такой приоритет оправдан, поскольку размер пенсий регулируется на федеральном уровне и нечувствителен к удорожанию стоимости жизни в Москве, что усиливает уязвимость пенсионеров по доходу. С другой стороны, условием получения этого вида социальной помощи является не подтверждение низкого дохода, а формальное отсутствие трудовых доходов у пенсионера, что при широком распространении нерегистрируемой занятости позволяет получать социальную помощь в том числе и небедным.
Из-за огромных сумм, идущих на доплаты неработающим пенсионерам, структура расходов московского бюджета на социальную поддержку сильно «искажена» в сравнении с показателями других регионов. Относительный вес других адресных видов помощи – детских пособий и жилищных субсидий – в Москве в 1,5-2 раза меньше, чем в областях. На категориальные меры социальной поддержки региональных льготников в Москве также приходится малая часть расходов, несмотря на сохранение широкого набора льгот.
В областях в рамках региональных расходных обязательств категориальные программы по объему финансирования превосходят адресные, но в разной степени. В Тверской области, отказавшейся от большей части натуральных трансфертов в пользу выплат, преобладание незначительно: «стоимость» адресных мер в 2007 году составляла менее 90% от «стоимости» категориальных (в 2004 году соотношение было обратным [3]). Передача на региональный уровень полномочий по социальной поддержке многочисленных категорий и монетизация льгот отчасти замедлили переход к адресным формам социальной защиты. В бюджете Томской области расходы гораздо сильнее смещены в сторону категориальных льгот и выплат: объем их финансирования в 1,6 раза превышает расходы на адресную поддержку. Отметим, что в рассматриваемый период здесь не было как таковой единой региональной программы регулярной помощи нуждающимся.
Относительная численность льготников в регионах, а значит и нагрузка на бюджеты, различна, но это не отражается на структуре расходов. Так, в Тверской области доля получающих ЕДВ (около 12%) – одна из максимальных в стране, однако «вес» затрат на основные категориальные меры социальной поддержки в ее бюджете гораздо меньше, чем в Томской области, где только 9,5% населения получают ЕДВ регионального уровня.
Таким образом, доминирование расходов на категориальные программы является общей чертой в системах социальной поддержки разных регионов. Исключение составляют «богатые» регионы, такие как Москва, имеющие ресурсы для финансирования специфических региональных программ. В совокупности на реализацию всех мер социальной поддержки категориального характера, включая те, которые предоставляются федеральным льготникам, в рассматриваемых регионах уходит от 20 до 36% от объемов финансирования социальной политики. При сохранении категориального подхода доля средств, выделяемых на финансирование этих видов помощи, может сокращаться только в связи с постепенной демографической убылью получателей.
Кризисные риски для региональных бюджетов. Издержки экономического кризиса тяжелее всего сказываются на региональных бюджетах. С одной стороны, резко сокращаются их доходы из-за сокращения производства и снижения налоговой базы. По данным мониторинга Министерства регионального развития РФ, за три квартала 2009 года налоговые поступления в консолидированные бюджеты российских регионов сократились в целом на 17% по сравнению с предыдущим годом [4]. Но этот показатель сильно усреднен; в ряде субъектов, особенно в более развитых, бюджетный кризис гораздо острее.
С другой стороны, именно на региональном уровне сконцентрирована б о льшая часть социальных обязательств государства, а значит и расходы на решение социальных проблем, обостряющихся в ходе кризиса: росте безработицы, снижении доходов населения. Трансферты из федерального бюджета покрывают только часть антикризисных расходов региональных бюджетов. По оценке Минрегиона, 23 субъекта РФ в 2009 году столкнулись с проблемой финансирования текущих расходов, в их числе и Тверская область. Большинству регионов, среди них Москва и Томская область, бюджетных ресурсов хватило на обеспечение текущих расходов и части капитальных вложений. И только 6 регионов смогли полностью выполнить принятые обязательства.
В результате многие регионы, особенно те, у которых и до кризиса в бюджете не было «лишних» средств, вынуждены «оптимизировать» расходы, в том числе и в сфере социальной поддержки: сдерживать темпы индексации социальных выплат и зарплат в бюджетном секторе, отказываться от некоторых направлений целевых программ, сокращать финансирование отдельных видов социальной помощи. На возможности регионов исполнять свои полномочия по социальной поддержке, по-видимому, негативно скажется и отказ федерального центра с 2010 г. софинансировать эти обязательства. В связи с этим еще актуальнее становится проблема повышения эффективности затрат на социальную поддержку, важнейшим компонентом которой мы считаем усиление адресности социальных программ. Этому посвящен следующий раздел статьи.
Возможности и ограничения повышения адресности социальных программ
Барьеры в обеспечении адресности бюджетных социальных расходов. Проблема адресности социальной помощи в России имеет два аспекта. С одной стороны, конфигурация современной системы социальной защиты в России такова, что в ней доминируют меры социальной поддержки, предоставляемые по категориальному принципу, а не адресные программы. Так, расходы на нестраховые социальные трансферты, не предусматривающие проверки нуждаемости, в 2007 году достигали 2,4% ВВП, в то время как стоимость программ социальной поддержки с учетом доходов составляла только 0,2% ВВП. С другой стороны, эффективность имеющихся в стране программ социальной защиты, основанных на проверке доходов, невысока: только часть выделяемых финансовых ресурсов доходит непосредственно до бедных домохозяйств.
Система категориальных льгот была унаследована в России из советского прошлого, когда она служила для дифференцирования доступа различных категорий населения к социальным благам при уравнительной функции заработной платы. Изначально льготы не были нацелены на поддержку малообеспеченных, а в начале рыночных реформ в России в условиях резкого падения реальной заработной платы и пенсий они стали использоваться как инструмент для поддержания уровня и качества жизни большинства населения. Результаты исследований показывают, что в настоящее время небедные в большей степени, чем бедные, включены в категориальные социальные программы [5]. По данным Росстата за 2004 год, среди домохозяйств-получателей льгот только 7,1% принадлежали к беднейшему первому децилю, тогда как максимально льготы концентрировались в домохозяйствах средних децилей по располагаемым ресурсам [2].
Как было показано выше, категориальные программы социальной поддержки «конкурируют» с адресными за бюджетные средства. В итоге – программы, специально разработанные для бедных и уязвимых групп, играют менее заметную роль в расходах региональных бюджетов, наравне с федеральным обеспечивающих финансирование системы социальной поддержки1.
Уровень эффективности самих адресных программ можно оценивать по двум ключевым критериям: степень адресности (доля небедных домохозяйств среди участников) и охват целевой группы (какая часть бедного населения участвует в программе). Данные по этим параметрам можно получать либо из ежеквартальных обследований бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ), проводимых Росстатом, либо из специальных социологических опросов. Расчеты по ОБДХ за третий квартал 2007 года показывают, что среди домохозяйств-участников двух крупнейших адресных программ – жилищных субсидий и ежемесячных детских пособий – около 55% имели среднедушевые денежные доходы выше черты бедности. Если же рассматривать показатель располагаемых ресурсов, лучше отражающий уровень благосостояния домохозяйств, то представленность обеспеченных групп возрастает до 60-65%. Данные других обследований, репре- зентативных на уровне отдельных регионов, например, опрос, проведенный во втором квартале 2006 года в Томской области1, подтверждают общий вывод: в этом регионе в программах жилищных субсидий и детских пособий небедными по доходам были соответственно 73% и 54% получателей [6].
В то же время целевая группа (бедное население) охвачена социальной помощью далеко не полностью: так, согласно нашим расчетам по данным ОБДХ за тот же период, ежемесячные детские пособия получали немногим более половины семей с детьми до 16 лет, имевших доходы ниже величины прожиточного минимума в регионе проживания.
Конечно, достижение 100-процентного охвата целевой группы адресными программами социальной помощи, с одной стороны, и полное исключение возможности участия в них небедного населения, с другой, является идеальным, недостижимым в реальности состоянием. В международной практике наилучшие показатели обеспечения адресности в программах, направленных на сокращение бедности, имеют США, а из стран со средним уровнем дохода – Румыния, где домохозяйства из беднейшего квинтиля с самыми низкими доходами составляют до 80% получателей социальных пособий для бедных [6]. В России же домохозяйствами из наиболее бедной квинтильной группы представлена только треть получателей адресных программ.
В нашей стране на эффективность адресных программ негативно влияет ряд специфических факторов, среди которых называются такие, как широкое распространение неформальных доходов, которые сложно учитывать при назначении пособия; занижение претендентами на помощь своих реальных доходов, усугубляемое слабостью или полным отсутствием процедур проверки информации; особенности планирования и разработки программ2; заявительная форма включения в программу, что препятствует большему охвату бедного населения [1; 6].
Выделенные проблемы обеспечения адресности социальной помощи – преобладание категориальных программ и невысокая эффективность адресных – являются барьером для оптимизации бюджетных социальных расходов, особенно актуальной в условиях кризиса.
Направления реформирования системы социальной защиты. В новейшей истории социальной поддержки в России уже предпринимались несколько попыток на государственном уровне повернуть систему социальной защиты в сторону большей адресности. Во-первых, в 1994 году началась реализация программы предоставления субсидий на оплату ЖКУ, в ней впервые был применен принцип проверки нуждаемости получателей. Во-вторых, в 1998-1999 годах были изменены правила в программе ежемесячных пособий на ребенка: право на их получение было предоставлено только семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума. Тогда же был издан рамочный Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», он устанавливал правовые и организационные основы оказания социальной помощи малоимущему населению. На его основе субъекты РФ разрабатывали собственные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление мер социальной поддержки малоимущим.
Однако с точки зрения использования бюджетных средств существенным шагом в обратном направлении была монетизация льгот в 2005 году. При сохранении категориального подхода финансирование мер социальной поддержки для многочисленных групп льготников было отнесено к обязательствам бюджетов субъектов РФ. Кроме того, замена льгот денежными выплатами привела к фактическому увеличению числа получателей социальной поддержки: ведь натуральными льготами по разным причи- нам пользовались далеко не все, кто имел на это право. В результате, как отмечалось ранее, расходы бюджетов субъектов РФ на социальную поддержку граждан из числа региональных льготных категорий в 2005 году возросли. При этом в ряде регионов с невысокой бюджетной обеспеченностью выполнение ими своих социальных обязательств было бы невозможно без наращивания объемов федеральной помощи1.
Таким образом, предшествующий анализ подводит нас к выводу о том, что в настоящее время в системе социальной защиты в России могут быть обозначены два направления реформирования с целью усиления адресной компоненты и переориентации бюджетных средств на социальную поддержку преимущественно бедного населения:
Если необходимость исключения из программ адресной помощи небедных слоев населения находит много сторонников, то идея о введении принципа контроля доходов для льготников может показаться спорной с позиций социальной справедливости. В самом деле, даже если мы опустим вопрос о льготах (или денежных выплатах вместо них) как о форме привилегии за определенные заслуги для отдельных категорий граждан, то почему эта социальная поддержка должна оказываться только бедным, имеющим льготный статус, а не всем малоимущим?
Ответ на этот вопрос дает ограниченность бюджетных ресурсов. При довольно высокой установленной черте бедности в России [1] выделение помощи всем, кто находится за этой чертой, может стать непосильной ношей для бюджета. В этих условиях применяются механизмы «отсечения» части малоимущих от адресной помощи. Эти механизмы могут быть основаны как на учете глубины бедности (дефицита доходов у бедных), так и на категориальном подходе. Последний подразумевает, что социальная помощь может предоставляться малоимущим, одновременно принадлежащим к категориям с высоким риском бедности (например, семьи с детьми), или тем бедным домохозяйствам, которые по объективным причинам (нетрудоспособный возраст, физическая нетрудоспособность) не могут получать доходы от трудовой деятельности. Такой совмещенный адресно-категориальный подход достаточно распространен в регионах.
Принцип «двойного фильтра» теоретически может быть применен и в отношении граждан, которым социальная поддержка предоставляется на основе льготного статуса. Поскольку в первой части статьи мы акцентировали внимание на расходах региональных бюджетов, то и далее мы будем вести речь только о тех категориях, которые относятся к компетенции субъектов РФ («региональные льготники»). В масштабах всей страны эта группа составляет 8% от общей численности населения, но по регионам эта доля варьирует от 14,5% в Чеченской республике до 1% в Якутии. В таблице 4 представлены характеристики охвата населения и объема расходов на одного получателя категориальных мер социальной поддержки в бюджетах трех регионов, рассмотренных в первой части статьи. Суммы социальных трансфертов, затрачиваемые в среднем на одного получателя, различаются как по субъектам РФ, так и по льготным категориям, и составляют в рассматриваемых регионах от 12 до 58% в соотношении с величиной ПМП (в среднем – около четверти). Этот уровень может считаться достаточно высоким для пособий1.
Таблица 4 Расходы консолидированных бюджетов г. Москвы, Тверской и Томской областей на обеспечение мер социальной поддержки граждан, относящихся к региональным льготным категориям, в 2007 году
|
Категория льгото-получателей |
Доля получателей в общей численности населения, % |
Социальные трансферты на 1 получателя, руб. в месяц* |
Соотношение социальных трансфертов на 1 получателя с величиной ПМП, % |
|
г. Москва |
|||
|
Ветераны труда |
7,0 |
700 |
26 |
|
Труженики тыла |
0,4 |
408 |
15 |
|
Жертвы репрессий |
0,1 |
1583 |
58 |
|
Тверская область |
|||
|
Ветераны труда |
9,4 |
375 |
12 |
|
Труженики тыла |
2,8 |
430 |
14 |
|
Жертвы репрессий |
0,1 |
820 |
26 |
|
Томская область |
|||
|
Ветераны труда |
9,3 |
702 |
25 |
|
Труженики тыла |
0,3 |
406 |
14 |
|
Жертвы репрессий |
0,7 |
952 |
33 |
* С корректировкой на стоимость жизни.
Источники: рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.
Рассмотрим теперь, какие предпосылки на данный момент позволяют объединить адресный и категориальный подходы, а, значит, «отсечь» от социальной помощи часть граждан, которые сейчас имеют на нее право, и что, напротив, может этому препятствовать.
Во-первых, социальная поддержка региональных льготных категорий, ориентированная на пожилое население, отчасти представляет собой признание заслуг граждан перед государством, но в большей мере – это своего рода компенсация пенсионерам за низкий уровень пенсионного обеспечения. Такая трактовка категориальных льгот была оправдана в период резкого падения реального уровня пенсий в 1990-е годы. Однако за годы экономического роста (1999-2007 годы) реальный размер пенсии вырос значительно (в 2,4 раза), хотя все же в меньшей степени, чем уровень заработной платы (в 3,1 раза) или реальные денежные доходы в целом (2,5 раза). При этом за три последних года реальные пенсии росли быстрее, чем реальные денежные доходы в целом (за 2006-2008 годы прирост составил соответственно 24 и 19%). Проводимая в настоящее время и намеченная на 2010 год политика масштабного увеличения уровня пенсий создает предпосылки для постепенного отказа от компенсирующей роли категориальных льгот.
Во-вторых, категориальный принцип как таковой не способствует концентрации финансовых средств на помощи наиболее нуждающимся. Результаты социальнодемографических исследований бедности показывают, что домохозяйства, состоящие только из пенсионеров, в 2 раза реже, чем все семьи, попадают в число бедных. Пенсионеры преодолевают бедность преимущественно благодаря продолжению трудовой деятельности. Среди неработающих пенсионеров уровень бедности в 1,5 раза выше среднероссийского уровня [7]. Именно представители этой группы являются главными клиентами существующих адресных программ социальной поддержки.
В-третьих, предоставление льгот такой категории, как ветераны труда, постепенно будет утрачивать смысл признания особых заслуг граждан перед государством. В перспективе среди выходящих на пенсию граждан продолжит расти доля тех, чей трудовой стаж был отработан на предприятиях частной, а не государственной формы собственности, что поставит под сомнение социальную оправданность льгот данной категории.
Очевидно, что ограничение доступа к социальной помощи для лиц из числа льготных категорий возможно только при параллельном развитии институтов социальной защиты бедного населения. А самым сильным лимитирующим фактором можно считать существенные политические издержки и риски – такие преобразования потребуют сложных и непопулярных управленческих решений. Кроме того, с экономической точки зрения эта задача может быть выполнима только при условии сохранения опережающей положительной динамики реального размера пенсий, чтобы, затеяв такие масштабные и политически рискованные реформы, потом не пришлось еще более наращивать расходы на социальную поддержку стремительно беднеющих пенсионеров.
Современный экономический кризис, сильно ударивший как по федеральному, так и по региональным бюджетам, может подтолкнуть к пересмотру подходов к оказанию социальной помощи населению. Однако, если не воспользоваться сложившимися предпосылками сейчас и не сделать маневра в сторону усиления адресности, то есть вероятность, что потом это будет еще более проблематично.
***
-
1. Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность. / Рук. авт. колл. Л.Н. Овчарова. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005.
-
2. Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / под ред. Т.М. Малевой; - Независимый институт социальной политики. - М.: НИСП, 2007.
-
3. Сурков С.В. Региональные адресные программы поддержки бедного населения: влияние финансовых и экономических институтов // SPERO. 2008. № 9. С. 187-204.
-
4. Мониторинг социально-экономического развития субъектов РФ. Министерство регионального развития РФ. http://www.minregion.ru/ WorkItems/ListNews.spx?PageID=434
-
5. Овчарова Л.Н., Пишняк А.И. Социальные льготы: что получилось в результате монетизации? // SPERO. 2005. № 3. С. 5-24.
-
6. Повышение эффективности программ социальной защиты и содействия занятости в целях борьбы с бедностью. Предложения по стратегии социальной защиты. Сводный доклад. - М.: Фонд «Институт экономики города», Независимый институт социальной политики. - The Urban Institute (США), Всемирный Банк, 2007.
-
7. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России. Экономический рост 2000-2007. - М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008.
Список литературы Приоритет поддержки бедных в условиях экономического кризиса: возможности и ограничения
- Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность./Рук. авт. колл. Л.Н. Овчарова. -М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. EDN: QQXGPX
- Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х/под ред. Т.М. Малевой; -Независимый институт социальной политики. -М.: НИСП, 2007. EDN: QOHCIR
- Сурков С.В. Региональные адресные программы поддержки бедного населения: влияние финансовых и экономических институтов//SPERO. 2008. № 9. С. 187-204.
- Овчарова Л.Н., Пишняк А.И. Социальные льготы: что получилось в результате монетизации?//SPERO. 2005. № 3. С. 5-24.
- Повышение эффективности программ социальной защиты и содействия занятости в целях борьбы с бедностью. Предложения по стратегии социальной защиты. Сводный доклад. -М.: Фонд «Институт экономики города», Независимый институт социальной политики. -The Urban Institute (США), Всемирный Банк, 2007.
- Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России. Экономический рост 2000-2007. -М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. EDN: QTIPXN
- Мониторинг социально-экономического развития субъектов РФ. Министерство регионального развития РФ. WorkItems/ListNews.spx?PageID=434.