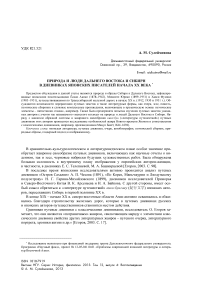Природа и люди Дальнего Востока и Сибири в дневниках японских писателей начала ХХ века
Автор: Сулейменова Аида Мусульевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Предметом обсуждения в данной статье являются природа и образы Сибири и Дальнего Востока, зафиксированные японскими писательницами Ёсано Акико (1878–1942), Миямото Юрико (1899–1951) и Хаяси Фумико (1903–1951), путешествовавшими по Транссибирской железной дороге в начале ХХ в. (1912, 1930 и 1931 г.). Обсуждаются возможности перерастания путевых заметок в такие литературные формы, как очерк, эссе, повесть, поэтические сборники и сложные комплексные произведения, включающие в прозаическую основу поэтические элементы – пятистишия «танка», например. Также была предпринята попытка изучения путевых заметок указанных авторов с учетом так называемого «женского взгляда» на природу и людей Дальнего Востока и Сибири. Наряду с анализом образной системы и жанрового своеобразия кико:бун («литературы путешествий») путевых дневников этих авторов проводится исследование особенностей жанра Нового времени Японии в сопоставлении с классическими дневниками, например, произведениями Мацуо Басё (1644–1694).
Японская литература, путевые дневники, очерк, автобиография, поэтический сборник, природные образы, гендерный подход к изображаемому
Короткий адрес: https://sciup.org/147218820
IDR: 147218820 | УДК: 821.521
Текст научной статьи Природа и люди Дальнего Востока и Сибири в дневниках японских писателей начала ХХ века
В сравнительно-культурологическом и литературоведческом плане особое значение приобретает жанровое своеобразие путевых дневников, включающих как научные отчеты о виденном, так и эссе, черновые наброски будущих художественных работ. Была обнаружена большая склонность к внутреннему плану изображения у европейских авторов-женщин, в частности, в дневниках Е. С. Телепневой, М. А. Башкирцевой [Егоров, 2003. С. 98].
В последнее время японскими исследователями активно проводится анализ путевых дневников «Остров Сахалин» А. П. Чехова (1891), «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» Н. Г. Гарина-Михайловского (1899), дневников исследователей Приморья и Северо-Восточного Китая В. К. Арсеньева и Н. А. Байкова. С другой стороны, имеет особый смысл обратиться к «литературе путешествий» кико:бунгаку (, ft^^^ ) японских авторов, пересекавших Сибирь в первой половине ХХ в.
В конце XIX – начале ХХ в. северо-восточные области Азии активно осваивались и обживались благодаря строительству железных дорог, которые в путевых дневниках русских и японских авторов-путешественников становятся местом действия.
Сравнивая путевые дневники с классическими дневниками, исследователь О. Егоров замечает, что они являются «пограничным» жанром, «включающим наряду с элементами классического дневника свойства других литературных жанров – путевого очерка, литературного портрета, хроники жизни и др.» [Егоров, 2003. С. 17].
Дневник как общий жанр фиксации впечатлений в европейской традиции отличается от японских дневников никки В№. Личные и путевые дневники в японской культуре, жанр записок дзуйхицу (Сэй Сёнагон, Мацуо Басё и др.) – явление до некоторой степени сходное, но имеющее собственные культурные корни, традиции и формы. В отечественном японоведении наиболее полно были исследованы классические дневники [Бреславец, 1994; Горегляд, 1975; Конрад, 1978], но в научной литературе пока не обсуждалось преломление богатой традиции подобных произведений в творчестве авторов ХХ в.
В лирическом дневнике путешествия «Записки из дорожной корзины» («Ои-но кобуми», 1687) Мацуо Басё (1644–1694) рассказывает: «…пришлось взять бумажное платье вместо одеяла, накидку от дождя, а также тушечницу, кисть, бумагу, лекарства и корзину для еды. Все это я взвалил на спину и едва передвигал ноги, так мало было у меня сил. Казалось, меня тянет назад, и я нисколько не продвигаюсь вперед. Тяжко и мучительно.
Кутабирэтэ Ядо кару коро а Фудзи-но хана
Устал,
И вот нашел приют – Цветы глициний…»
[Бреславец, 1994. С. 32].
В современных путевых очерках наряду с обстоятельностью обязательным является усиление авторского отношения к изображаемому, чего не было в средневековых описаниях путешествий. В произведениях странствующих монахов персонажи, встреченные по дороге, лишены имен или спрятаны под вымышленными прозвищами. Исследователь Х. Сиранэ полагает, что прозаический текст «По тропинкам Севера» («Оку но хосомити», 1694) Мацуо Басё с включениями поразительных по тонкости трехстиший хайку не следует относить к путевым дневникам. Басё описывал впечатления от увиденного, но формировал собственный, идеальный взгляд на окружающее [Shirane, 1998. P. 225]. Читатель «По тропинкам Севера» вслед за Басё видит не реальную Японию периода Эдо (1603–1868), а выдуманную страну великого поэта. В описании переезда, паломничества поэта-монаха нет центра, нет и конечного пункта пути; природа, люди и сам поэт движутся от одного воспоминания, связанного с определенным топонимом ута-макура 1 , к другому и возвращаются не к началу путешествия, а к некоему абсолютному приюту. Подобный нелинейный хронотоп является продолжением ностальгической традиции путешествий по местам, овеянных дымкой прошлого, в «Дневнике путешествия в Тоса» («Тоса никки», X в.). С развитием средств передвижения осваивается и другое направление подобной литературы – описания путешествий прагматического характера, с картами, указанием мест пристанища, трактиров, ориентиров.
На рубеже XIX–ХХ вв. объем подобных сочинений значительно увеличился, что было вызвано большим количеством японцев, путешествовавших не только по стране, но и за ее пределами. В путевых дневниках эпох Мэйдзи (1868–1911) и Тайсё (1911–1925) усиливаются тенденции научного освоения мира и эмоционального постижения тягот пути. Это близко западноевропейской литературе путешествий, путешествиям открытий и «сентиментальным» путешествиям [Wittkamp, 2008. P. 42]. Вместе с тем можно говорить о рождении нового явления – ландшафтной перспективы, понятия «современный ландшафт», отсутствовавшего в ранней японской прозе [Karatani, 1993. P. 72]. В путевых заметках писателей Нового времени также усиливается диалогичность речи, автор обращается не только к дневнику как к собеседнику, но и к внутреннему «я», невидимому участнику обмена мнениями об окружающем пейзаже или бытовых сценах.
Среди путешествовавших через Маньчжурию и Сибирь японских писателей и деятелей культуры выделяются несколько женщин – Ёсано Акико (1878–1942), Миямото Юрико (1899–1951) и Хаяси Фумико (1903–1951). Цели их путешествий по Китайско-Восточной
1 Ута-макура (букв. «изголовье песни») - поэтический прием раннесредневековой японской литературы, введение в текст топонима-зачина. Например, прекрасные цветы сакуры ассоциируются с горой Ёсино , а листья кленов - с Тацута (см.: [Боронина, 1978. C. 187-188].
и Транссибирской железным дорогам были разными, но отношение к природе и людям в их путевых дневниках имеет общие черты.
Дневники путешествия Ёсано Акико, автора многих антологий пятистиший танка и стихов свободного стиля, детских рассказов и феминистических эссе, через Россию в Париж в 1912 г., навстречу своему мужу Тэккану (Ёсано Хироси, 1872–1935) впечатляют не только неординарностью совершенного поступка, но и возможностями путевых записок отображать эпоху. Это также актуально для других произведений, связанных с этим путешествием: сериальные эссе супругов Ёсано в форме дневника «Из Парижа» («Пари ёри», 1912), антологии переводов французских поэтов Тэккана «Цветы сирени» («Рира но хана», 1915) и антологии танка Акико 2 «От лета к осени» («Нацу ёри аки э», 1914). Также близка в содержательном плане повесть Акико для детей «Год из жизни Тамаки» («Тамаки но итинэнкан», 1912), в которой девочка едет с родителями во Францию.
В 1911 г., до отъезда Тэккана из Японии, супруги Ёсано договорились с газетой «Асахи симбун» о том, что каждый день в Европе будет ими описан и эти заметки будут отосланы в Токио. Подобная корреспондентская работа вылилась в сборник путевых заметок «Из Парижа». Японцы в 1912 г. могли читать впечатления путешествующей пары через несколько дней после того, как поэты отсылали заметки в редакцию. Другими результатами путешествия стали сборник танка Акико «От лета к осени», составленный из стихотворений, посвященных путешествию, и сборник переводов французских поэтов «Цветы сирени», выполненный рукой Тэккана. В данной работе обсуждаются особенности дневников четы Ёсано «Из Парижа», в частности, отрывок «До Парижа» («Пари мадэ»), созданный Акико.
Поэтесса отправилась 2 мая из порта Цуруга на русском корабле «Орел» во Владивосток, где 5 мая пересела на поезд и, следуя через Маньчжурию, Сибирь, Москву и Варшаву, пересекла весь евразийский континент. В Париж, на Северный вокзал, она прибыла 19 мая. Поскольку Акико ни разу в жизни не совершала таких длительных переездов, и вообще не многие японские женщины могли похвастаться самостоятельной поездкой в Европу, это путешествие привлекло большое общественное внимание. Часть дневников, а именно главу «До Парижа», где описан проезд по Маньчжурии и Сибири, поэтесса опубликовала уже после приезда в Париж.
Специфика путевого дневника супругов Ёсано заключается в его журналистской наполненности. Почти каждая статья снабжена датой сдачи материала в редакцию, наполнена актуальной для читателя информацией. Авторы учитывали вероятность того, что их записи будут читать и рядовые читатели, рассчитывающие возможность путешествия по неизвестным местам, и деятели искусств.
В отличие от некоторых других авторов танка , например, Вакаяма Бокусуй (1886–1927), чередовавших свои путевые заметки и пятистишия, в заметках «Из Парижа» проза не перемежается стихами, хотя подразумевают читателя, знающего японскую традицию включать в описание путешествия поэтические строки. Но главным для авторов «Из Парижа» остается увлеченность реалистическим описанием. Например, как в следующем отрывке: «С полчетвертого прояснилось, а в четыре часа совсем рассвело. Когда около 5 часов вышла умыться, англичанин с белой редкой бородкой стоял одиноко в коридоре. На противоположной стороне коридора примостился проснувшийся кореец, он неотрывно смотрел в окно. Господин Сайто проспал, только в 8 часов пришел меня звать на завтрак в ресторан. На одного едока за завтрак, состоявший из хлеба и кофе, пришлось уплатить около 50 сэнов 3. В 2 часа пополудни прибыли в Харбин» [Ёсано, 2007. С. 93]. В подобном повествовании чувствуется желание придать ему приземленный характер и тем самым снять напряженность женщины, впервые путешествующей самостоятельно, находящейся в необычной атмосфере.
Кроме того, дневники поэтов Ёсано, мужа и жены, могут послужить объектом социологического исследования. На страницах дневника, которые вела Акико, звучат два голоса – наблюдательной путешественницы, с интересом разглядывающей неизвестный ей мир, и писательницы, в отражаемой ею действительности ищущей саму себя. Объективное изображение увиденного не отменяет субъективную реакцию автора, склонного к рефлексии и фантазии. В следующей сцене из дневника реалистичное описание перемежается поэтическими аллюзиями: «Послала в Далянь ответную телеграмму: “Этот поезд ради меня жжет поминальную свечу”. До следующей границы будем ехать, видимо, не на каменном угле, а на древесине. На всех станциях на меня с опаской посматривали монгольские овчарки с жуткими мордами, брутальные казаки и изнуренные китайцы» [Ёсано, 2007. С. 93].
Природа Маньчжурии и Сибири, которую довелось увидеть Акико в ее кратком вояже по Транссибирской магистрали, окрашена в теплые тона узнавания в неизвестной местности знакомых японских реалий.
«Мили две-три тянулся пейзаж с застывшими волнами льда. Покрытое льдом озеро сверкало, словно зеркало, и, видимо, вдалеке было много рыбы, так как было много и лодок, с которых люди рыбачили. Пока смотрела я на эту прибрежную картину, уже не вызывавшую интереса, вспомнились виды Окицу 4 на токайдосском тракте» [Ёсано, 2007. С. 95].
Представляется особенно интересным специфическое наложение впечатлений, изложенных в путевых заметках и в поэтическом собрании танка «От лета к осени». Пятистишия, посвященные дальнему странствию, были написаны и собраны в антологию гораздо позже, в 1915 г.
Калейдоскопические картины пути по Транссибирской железной дороге предстают перед читателем в таких произведениях.
水づきたる楊の枝もシベリアの裸足少女もあはれなりけれ
|
Мидзу китару Янаги но эда мо Сибэриа но Хадаси отомэ мо Аварэ нарикэрэ |
И ветви ивы, Что склонились над водой, И сибирская Босоногая девушка, - Как это печально! [Ёсано, 1981. С. 80. № 540] |
シベリアに流されていく囚人の中の少女が著たるくれなゑ
Сибэриа ни Нагасарэтэ ику Сюдзин но
Нака но отомэ га Тёу тару курэнаэ
Алым пятном
Выделяется одинокая фигура
Девушки
В потоке узников,
Уводимых в Сибирь…
[Там же. № 543]
Мельком увиденные женские фигуры босоногой девушки и юной каторжанки, обреченной на этап в Сибирь, запечатлелись в памяти японской поэтессы в мае 1912 г., когда Акико выглядывала из окна купе поезда. Цепкий женский взгляд выхватывал из окружающего пейзажа понятные и объяснимые собственному сердцу картины.
Вышедший в 1915 г. сборник танка представляет собой поэтический дневник влюбленной женщины, украшенный европейскими картинками, которые стали фоном для долгожданной встречи с любимым. Реалистические (можно сказать, прагматические) путевые заметки Акико и Тэккана в сопоставлении с их антологиями танка, переводами и эссе также являются отражением контекста стихотворных антологий, свидетельством поиска собственного языка.
Миямото Юрико, лидер демократической литературы 1930–1950-х гг., прожила несколько лет в Москве (1927–1930), близко сошлась с некоторыми видными деятелями искусства того времени, в частности, с Максимом Горьким. Известны ее дневники, созданные по дороге из Москвы в Японию.
В этих дневниках перед читателем предстает совсем иная действительность, действительность советской России, о которой восторженная идеалистка, член японской компартии Юрико Тюдзё 5, оставляет такие строки: «27 октября. Утром открыла окно, над пожелтевшей травой первозимья шел слабый снег. Маленькая станция посреди лиственной рощи. Вдоль косогора выстроилось несколько окрашенных в яркие – синие, красные – краски сельхозмашин. Как же старая земля становится новой землей? Эти машины – реальный пример того, как во время советской пятилетки увеличится в 400 раз объем сельхозтехники. Оконные стекла в поезде позеленели, вокруг одни сосны. Вдруг – перед глазами раскинулся широкий вид. До самой линии горизонта тянутся вырубаемые леса. Столбы сетей высоковольтного напряжения через равные промежутки тянутся вдаль» [Миямото, 1980. C. 243].
Активную пропагандистку советского образа жизни радует радикальное преображение жизни русской деревни. Настроение этого дневника заметно иное, акцент смещается от сопереживания виденным в пути людям и погруженности в собственные мысли к перечислению примет нового мира, такого далекого от жизни Юрико в Токио.
В отличие от Ёсано Акико, описавшей впечатления от озера Байкал, в путевых дневниках Юрико, проезжавшей осенью 1930 г. от Москвы к Владивостоку, не осталось строк об этом озере. Хотя в ее путевых записках отмечаются «монгольские овчарки», которых упоминала и Акико: «В монгольских деревнях так много собак!».
Обе японские писательницы описывают русских женщин. В дневнике Юрико всплывают фигуры сельских женщин с коромыслом на плечах у колодцев-журавлей: «Когда проезжали через маленькую деревню, увидела, как женщины с палкой, возложенной на плечи, цепляли деревянные ведра и шли по воду… (Пропущено)… В Японии женщины набирают воду. И в России это делают женщины…» [Миямото, 1980. С. 250]. Юрико постоянно сравнивает женщин разных стран, ею движет чувство праведного социального гнева и желание зафиксировать изменения в стране победившего социализма.
Подобными наблюдениями за окружающей жизнью из окна поезда наполнены дневники другой японской путешественницы, поэтессы и прозаика Хаяси Фумико. Эта писательница стала известна благодаря первому роману с говорящим названием «Скитания» («Хороки», 1930), дневнику-автобиографии, в котором описаны первые шаги в литературе начинающего автора.
Фумико пересекала Сибирь и Маньчжурию в январе 1931 г. Ее целью, как и девятнадцать лет назад у Ёсано Акико, был Париж. Россию она видела из вагона третьего класса, наполненного простыми людьми и интересными попутчиками – подростком-пионером, сошедшим в Перми, который пытался говорить с Фумико и сожалел, что она не знает русского языка, рыбаком, пропахшим рыбой, слыхавшим о Хакодате и гейшах, а также мальчиком-«боем», называвшим иностранку-азиатку «Японски». Дневник «Путешествие по Сибири» («Сибэриа но таби», 1931) не наполнен патетикой демократической писательницы. Фумико, знакомая с русской литературой, искала в окружавших ее людях идеальные образы, но не находила их: «Те русские женщины, которых видела из окна поезда, были бойкими и крепкими, но, простите, среди них было много и бесформенных, просто свиноподобных. Чеховских, пушкинских женщин среди них не наблюдалось» [Хаяси, 2012. С. 70].
Итогом этого дневника являются критические слова писательницы: «Россия интересуется только заводами, совсем не занимается частной собственностью, вот и едет в третьем классе голодный пролетариат» [Там же. С. 75–76].
В декабре 1938 г. Хаяси Фумико в составе группы журналистов от издательства «Асахи симбун» снова проехала по Маньчжурии, высылая пропагандистские «Сообщения с передо- вой» («Сэнсэн», 1938–1941), которые позже были объединены в повесть «Замерзший континент» («Корэру тайти», 1938), в которой чувствуется опыт ее «Путешествия по Сибири».
С функциональной точки зрения изученные отрывки из дневников японских писательниц являют собой сплав дневника познавательного типа и творческого дневника. Некоторые элементы дневника Миямото Юрико позволяют отнести его к дневнику инициации, когда автор демонстрирует эмоциональные изменения в себе самой, испытавшей мощное воздействие советской пропаганды. Все изученные дневники японских женщин-авторов отмечены особенным интересом к простым русским людям, особенно к женщинам и детям. В дневнике Ёсано Акико остается место, чтобы зафиксировать сопоставление увиденных мест и лиц с воспоминаниями об оставленных японских местах, отсюда появление топонимов в тексте дневников. К тому же Акико – поэтесса, и часть дневника «Из Парижа», описывающая Россию и Маньчжурию, становится черновым материалом для будущего сборника танка «От лета к осени». Конечно, ее путевые заметки уже не являются лирическими дневниками, как дневники средневековых авторов, но интровертность автора сказывается в повышенной эмоциональности повествования и особенной выразительности.
В дневниках Миямото Юрико и Хаяси Фумико уделяется значительное место важным политико-экономическим проблемам, окружавшей писательниц действительности. Но если Юрико, впитавшая в Москве идеи социализма, анализирует реалии советского быта с энтузиазмом и почти восторженным оптимизмом, то Фумико иронизирует по поводу «голодного пролетариата». Эти дневники совмещают в себе элементы очерка или публицистической статьи.
Помимо того, что путевые дневники Ёсано Акико, Миямото Юрико и Хаяси Фумико следует считать свидетельством эпохи, эти произведения малой формы в сочетании с другими работами в иной жанровой плоскости (очерками, эссе, поэтическими сборниками и детскими рассказами) дают представление о развитии путевого дневника как литературного жанра ХХ в.
Ёсано Тэккан, Ёсано Акико . Пари ёри [ 4Ш5^#х^№^й^оЕ1^ ^ // ^W^^# ввЖЖЖо Ж 27 #о ЖЖ : ^^Ш№ ]. Из Парижа // Ёсано Тэккана, Ёсано Акико Полн. собр. соч. Токио: Бэнсэй сюппан, 2007. Т. 20. C. 93–95.
Миямото Юрико . Атарасики Сибэриа о ёкогиттэ [ 宮本百合子。新しきシベリアを横切っ て // 宮本百合子全集。第 9 巻。東京:新日本出版社 ]. Пересекая новую Сибирь // Миямото Юрико. Полн. собр. соч. Токио: Син Нихон Сюппанся, 1980. Т. 9. С. 242–251.
Хаяси Фумико . Сибэриа но таби [ 林芙美子。西比利亜の旅 // 林芙美子。下駄で歩いた巴 里。林芙美子紀行集。東京:岩波文庫 ] Путешествие по Сибири // Хаяси Фумико. По Парижу в деревянных сандалиях. Собрание путевых дневников Хаяси Фумико. Токио: Иванами бунко, 2012. 331 c.
Karatani Kojin . Origins of Modern Japanese Literature. Translated by Brett de Bary. Durham: Duke University Press, 1993. 240 p.
Shirane Haruo . Traces of Dreams: Landscape, Cultural Memory, and the Poetry of Basho. Stanford: Stanford Univ. Press, 1998. 381 p.
Wittkamp R. F . Between Topos and Topography: Japanese Early Modern Travel Literature // Asian Crossings. Travel Writings on China, Japan, and Southeastern Asia. Eds. S. Clark, P. Smethurst. Hong Kong: Hong Kong Univ. Press, 2008. P. 42–48.
Материал поступил в редколлегию 15.11.2012
Aida M. Suleymenova
NATURE AND PEOPLE OF THE FAR EAST AND SIBERIA
IN THE JAPANESE TRAVEL WRITINGS IN THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY
The subject of the discussion is the description of nature and images of the Far East and Siberia in the works of some Japanese female writers, like Yosano Akiko (1878–1942), Miyamoto Yuriko (1899–1951) and Hayashi Fumiko (1903– 1951), who traveled by the Trans-Siberian Railway in 1912, 1930 and 1931. The paper deals with some transformational possibilities of these writings (into newspaper sketches, essays, novels, poetical anthologies and complex artistic works which prosaic textual bodies included small poetic forms, Japanese five-lined verse «tanka»). The study of these works has been also carried with the special attention to the so-called «woman gaze» at the nature and people of the Far East and Siberia. Besides the comparative analysis of the imagery and the genre possibilities of these travel diaries, in the present paper have been studied the main features of kikoubun , or modern Japanese travel writings, in comparison with the pre-modern diaries like the masterpieces written by Matsuo Basho (1644–1654).
Список литературы Природа и люди Дальнего Востока и Сибири в дневниках японских писателей начала ХХ века
- Боронина И. А. Поэтика классического японского стиха. М.: Наука, 1978. С. 187-188.
- Бреславец Т. И. Очерки японской поэзии IX-XVII веков. М.: Вост. лит., 1994. 237 с.
- Горегляд В. Н. Дневники и эссе в японской литературе X-XIII вв. М.: Наука, 1975. 380 с.
- Егоров О. Г. Русский литературный дневник XIX века: история и теория жанра. М.: Флинта; Наука, 2003. 176 с.
- Конрад Н. И. Введение в японскую литературу // Конрад Н. И. Избр. тр. Литература и театр. М.: Наука, 1978. С. 133-141.
- Ёсано Акико. Нацу ёри аки э [与謝野晶子。夏より秋へ // 定本与謝野晶子全集。第 3巻。東京:講談社]. От лета к осени // Ёсано Акико. Полн. собр. соч. (Тэйхон Ёсано Акико дзэнсю). Токио: Коданся, 1981. Т. 3.
- Ёсано Тэккан, Ёсано Акико. Пари ёри [与謝野鉄幹、与謝野晶子。巴里より // 与謝野鉄幹晶子全集。第 27巻。東京:勉誠出版]. Из Па рижа // Ёсано Тэккана, Ёсано Акико Полн. собр. соч. Токио: Бэнсэй сюппан, 2007. Т. 20. C. 93-95.
- Миямото Юрико. Атарасики Сибэриа о ёкогиттэ [宮本百合子。新しきシベリアを横切って// 宮本百合子全集。第 9巻。東京:新日本出版社]. Пересекая новую Сибирь // Миямото Юрико. Полн. собр. соч. Токио: Син Нихон Сюппанся, 1980. Т. 9. С. 242-251.
- Хаяси Фумико. Сибэриа но таби [林芙美子。西比利亜の旅 // 林芙美子。下駄で歩いた巴里。林芙美子紀行集。東京:岩波文庫 ] Путешествие по Сибири // Хаяси Фумико. По Парижу в деревянных сандалиях. Собрание путевых дневников Хаяси Фумико. Токио: Иванами бунко, 2012. 331 c.
- Karatani Kojin. Origins of Modern Japanese Literature. Translated by Brett de Bary. Durham: Duke University Press, 1993. 240 p.
- Shirane Haruo. Traces of Dreams: Landscape, Cultural Memory, and the Poetry of Bashō. Stanford: Stanford Univ. Press, 1998. 381 p.
- Wittkamp R. F. Between Topos and Topography: Japanese Early Modern Travel Literature // Asian Crossings. Travel Writings on China, Japan, and Southeastern Asia. Eds. S. Clark, P. Smethurst. Hong Kong: Hong Kong Univ. Press, 2008. P. 42-48.