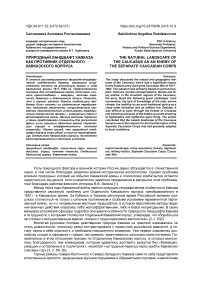Природный ландшафт Кавказа как противник Отдельного Кавказского корпуса
Автор: Салчинкина Ангелина Ростиславовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 10, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются природно-географические особенности Кавказа, оказавшие существенное влияние на российскую армию в ходе Кавказской войны 1817-1864 гг. Первостепенное значение для исследования имели источники личного происхождения - мемуары, частная переписка, дневники и дневниковые записи. Показано, что в горных районах Кавказа наибольшие проблемы были связаны со сложностью передвижения, незнанием местности, изнурительным климатом, невозможностью использовать традиционные тактические приемы - сомкнутый строй и артиллерийский огонь. Лесные массивы Черкесии и Чечни представляли сложность для российской армии из-за скрытых действий метко стреляющих горцев и неэффективности залповой стрельбы. Сделан вывод, что природный ландшафт Кавказа стал одной из причин трансформации Отдельного Кавказского корпуса, постепенно адаптировавшегося к местным условиям.
Природный ландшафт, скалистые горы, лесные массивы, горцы, военная тактика, отдельный кавказский корпус, кавказская война
Короткий адрес: https://sciup.org/149133682
IDR: 149133682 | УДК: 94:911.52.2(470.62/.67) | DOI: 10.24158/fik.2018.10.9
Текст научной статьи Природный ландшафт Кавказа как противник Отдельного Кавказского корпуса
Роль природного фактора в военной истории России давно обсуждается в отечественной науке, в том числе благодаря развитию военно-исторической антропологии. Однако проблема влияния природных условий на события Кавказской войны и психологию комбатантов остается недостаточно изученной, хотя и наметилось заметное продвижение в раскрытии этой проблематики благодаря работам военного историка В.В. Лапина [1].
Между тем в годы Кавказской войны именно природно-географические особенности Кавказа представляли серьезную проблему для Отдельного Кавказского корпуса, преобразованного в 1857 г. в Кавказскую армию. За Кубанью и Тереком регулярной армии Российской империи пришлось столкнуться не только с сильным противником и особыми условиями перманентной партизанской войны, но и с непривычным местным ландшафтом, в котором европейские методы ведения военных действий оказались либо малоэффективными, либо и вовсе непригодными. В своих мемуарах российские офицеры подробно описывали особенности природного ландшафта Кавказа и те трудности, с которыми столкнулся Отдельный Кавказский корпус, утверждая, что «борьба шла не столько с могущественным врагом, сколько с трудноодолимою местностью» [2, с. 632].
Воспетая русскими поэтами девственная природа Кавказа на практике оказывалась не столь романтичной, поскольку резко контрастировала с привычной российской равниной, а потому таила в себе опасность и требовала повышенного внимания. Уже первое знакомство российских солдат и офицеров с горами, как правило, заканчивалось колоссальными потерями. Показательны в этом отношении приказы по Отдельному Кавказскому корпусу, в которых выносилась благодарность тем командирам, которым удавалось доставить рекрутов без «бежавших, умерших и оставленных в гошпиталях», несмотря «на трудный переход через хребты Кавказских снеговых гор» [3, л. 84, 92].
Горные районы Северо-Восточного и Северо-Западного Кавказа сами по себе представляли естественные крепости, защищенные крутыми подъемами и обрывистыми спусками, извилистыми горными тропами и ледниковыми трещинами. Помимо регулярных стычек с горцами, опасность представляли и передвижения российских войск по горам. Длительность экспедиций зависела от характера боевой задачи и колебалась от нескольких дней до нескольких недель. Ограниченные ресурсы региона требовали формирования больших обозов, которые в условиях плохих горных дорог лишали подвижности и без того громоздкие отряды. С собой приходилось брать орудия с боеприпасами, запас провизии, походную кухню, шанцевый инструмент, канцелярию, а иногда дрова и корм для лошадей. В итоге получался длинный караван, который надо было охранять и постараться не растерять на дорогах, которые, по замечанию офицера-разведчика Ф.Ф. Торнау, «едва имели ширину, потребную для людской ноги и для конского копыта» [4, с. 217].
В горных районах нередко приходилось продвигаться по козьим тропам или по почти перпендикулярным скалам, «придерживаясь одною рукою, чтоб не упасть в пропасть под ногами, а другою отражая неприятеля» [5, с. 112]. Солдаты были вынуждены тащить на себе не только тяжелое солдатское снаряжение, но и пушку или обозную фуру [6, с. 51; 7, с. 361]. Нередкой была картина, когда «горы были застланы густым серым туманом, сквозь который вяло тянулись уморенные солдаты, осторожно шагавшие по скользкой дороге» [8, с. 233].
Горцы, используя свой опыт ведения боев в местных условиях, весьма эффективно боролись с регулярной армией, которая никак не могла реализовать свои преимущества в горах. Сомкнутый строй оказывался непригодным в теснинах, а в индивидуальных стычках с горцами, которые виртуозно владели холодным оружием, солдаты и офицеры Отдельного Кавказского корпуса, как правило, проигрывали. Русская пехота не могла штыками отогнать стрелков, которые занимали позиции на противоположном от дороги краю обрыва и метко обстреливали врага. Отсутствие ровных площадок и ограничения обзорности лишали российскую артиллерию многих преимуществ. Зато в скалистых горах с многочисленными расщелинами весьма эффективным оружием стали камни, которые горцы сбрасывали на головы своих противников. Ситуацию усложняли незнание российским командованием местности из-за отсутствия достоверных карт и ненадежность проводников, которые нередко заводили солдат то в тупики, то в засады.
Для российской армии изнурительным был и климат в горах Кавказа, который отличался резкой сменой погоды и большими перепадами температур. Генерал Д.А. Милютин вспоминал, что постоянные ветра и сырость неожиданно сменялись зноем [9, с. 220]. Но уже после жаркого дня наступала холодная ночь. Нередко приходилось размещаться на ночлег без элементарных удобств: «на открытом воздухе», завернувшись в шинель, засыпая «на довольно сильном и холодном ветре», иногда используя «сено вместо кроватей» [10, с. 146]. Во время дождливых ночей все грелись возле огня. В случае безлесья местности дрова для разведения костра приходилось приобретать по баснословным ценам – «за охапку хвороста, уложенного в виде вьюка на ишаках, платили от 1 р. 20 к. до 1 р. 60 к.» [11, с. 568].
Весной и осенью дороги преграждали бурные потоки воды и грязи, в результате чего переправа становилась опасным и крайне тяжелым делом. Из-за обильных дождей тропинки размывались, и приходилось тратить время на поиск обходных путей. С наступлением зимы и выпадением снега движение по высокогорным перевалам делалось все более сложным. Из-за перебоев в снабжении и нехватки теплой одежды на фоне сильных ветров и переправ через ледяные горные реки массово распространялись такие заболевания, как воспаление легких, простудная горячка, обморожение. Дневниковые записи сохранили интересные детали адаптации российской армии к зимним условиям в горах. Князь Д.И. Лукомский вспоминал, что «солдаты вымазали себе глаза порохом во избежание блеску от снега» [12, с. 146–147]. Для защиты кожи на лице от обгорания нос и щеки обтирали сальной тряпкой, при этом, как отмечал прапорщик Дагестанского пехотного полка Н.Н. Стрелокк, у солдат на такую операцию уходило сала «гораздо больше, чем на чистку и смазку ружей» [13, с. 562].
В отличие от угнетающего вида гор, лесные массивы для российской армии казались менее «чужими», что в своих мемуарах подметил генерал К.К. Бенкендорф: «…Наши солдаты вздыхали о прелестях Чечни, между тем как там их отовсюду подстреливают, и каждый переход по лесу стоит чьей-нибудь жизни. Но там, по крайней мере, есть трава, есть лес, которые все-таки напоминают родину, а в Дагестане одни скалы да камни, камни да скалы» [14, с. 345]. Однако на практике лесные дебри Черкесии и Чечни оказались не менее опасным противником, чем скалистые горы Дагестана.
Военная тактика регулярной армии XIX в. предполагала организацию боя на открытом пространстве, действие сомкнутого строя и применение артиллерии. Густой лес стал серьезным препятствием для реализации привычных стратегических и тактических принципов российского военного командования, в то время как горцам лесные дебри позволяли уклоняться от лобовых столкновений и скрывать в них семью со всем своим имуществом.
Весной и летом обильные дожди превращали незначительные ручьи в бурные непреодолимые реки, а леса становились непроходимыми из-за разнообразной растительности, «через которую можно было прорываться только с помощью топора или кинжала» [15, с. 45]. В своих мемуарах генерал Г.И. Филипсон, описывая поход из Кабардинского укрепления в Геленджик, вспоминал, что из-за колючих кустов, которые солдаты называли «держи дерево», его сюртук превратился в лохмотья [16, с. 109]. Многочисленные кустарники с острейшими колючками мешали российской армии быстро передвигаться, наносили глубокие раны и портили обмундирование солдат и офицеров.
Лесной ландшафт давал неоспоримые тактические преимущества горцам, которые при совершенном знании местности занимали наиболее удобные позиции и, действуя самостоятельно или локальными мобильными группами, метко стреляли по противнику. В своем дневнике поручик Н.В. Симановский писал, что в буйной зелени черкесы были невидимыми: «Они стреляли из-за деревьев, и иногда только показывались их головы, когда старались высмотреть, в кого метить» [17, с. 388].
Традиционная тактика российской армии с использованием залповой стрельбы, без выбора конкретной цели, на Кавказе была не эффективна. В условиях маневренной войны без достаточно плотной массы противника, и даже без четкой линии фронта, российским солдатам и офицерам приходилось бороться с разбросанными по лесу горскими конницами. Зато горцы, экономя патроны и имея трудности с заряжением винтовки, отточили свое мастерство в меткой стрельбе. Генерал М.Я. Ольшевский вспоминал, как неприятель «с особенным искусством» действовал в своих лесах, в то время как российская армия на ощупь пробиралась через густой орешник, натыкаясь на скрытые засады чеченцев, которые значительно превосходили «в целко-сти и дальности выстрелов» [18, с. 288].
Участники кавказских событий отмечали, что горцы охотнее дрались летом. Осенью и зимой, когда опадала листва и обмеливали реки, российские войска совершали более успешные рейды на горские территории. Спасая свои семьи, непокорные горцы до весны уходили в труднодоступные ущелья.
Стараясь изменить «календарь» военных действий, зависящий от природных условий Кавказа, в 20-х гг. XIX в. российское командование начинает искусственно создавать открытое пространство, вырубая леса. Прокладка широких просек позволяла избегать внезапных нападений противника, а также давала возможность применять артиллерию и сомкнутый строй. Местная газета «Кавказ» писала о рубке леса как о настоящих боевых действиях [19, p. 64], поскольку горцы делали все возможное, чтобы сорвать продвижение Отдельного Кавказского корпуса вглубь лесного массива. Однако полностью остановить прокладку просек, открывающих доступ российской армии к аулам, горцы были не в состоянии.
Таким образом, горный ландшафт и лесные массивы Кавказа выступили серьезными противниками для Отдельного Кавказского корпуса и стали одной из причин затягивания военного конфликта в XIX в. Наряду с сильным врагом – горцами, непривычная кавказская природа стала физической и психологической проверкой для российской армии, заставляя ее приспосабливаться к местным условиям и менять важные составляющие военного дела – от вооружения и обмундирования до тактики и стратегии.
Ссылки:
-
1. Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII–XIX вв. СПб., 2008. 400 с.
-
2. Венюков М.И. Кавказские воспоминания. 1862–1863 // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны
XIX в. СПб., 2000. С. 632.
-
3. Государственный архив Краснодарского края. Ф. 318. Оп. 1. Д. 32. Л. 84, 92.
-
4. Торнау Ф.Ф. Воспоминания русского офицера. М., 2002. 272 с.
-
5. Голицын Н.Б. Жизнеописания генерала от кавалерии Емануеля (Извлечение) // Русские авторы XIX в. о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа / сост. Х.М. Думанов. Т. 1. Нальчик, 2001. 323 с.
-
6. Волконский Н.А. Погром Чечни в 1862 г. // Россия и Кавказ – сквозь два столетия. Исторические чтения. СПб., 2001. 416 с.
-
7. Воспоминания генерал-майора Августа-Вильгельма фон Мерклина о Даргинской экспедиции 1845 г. // Гордин Я.А.
-
8. Торнау Ф.Ф. Воспоминания русского офицера. С. 233.
-
9. Милютин Д.А. Год на Кавказе. 1839–1840 // Осада Кавказа … С. 220.
-
10. 1850. Дневник кн. Дмитрия Лукомского // Звезда. 1998. № 7. С. 146.
-
11. П.К. Из дневника дагестанца. 1859 // Осада Кавказа … С. 568.
-
12. 1850. Дневник кн. Дмитрия Лукомского. С. 146–147.
-
13. П.К. Из дневника дагестанца. 1859. С. 562.
-
14. Бенкендорф К.К. Воспоминания. 1845 // Осада Кавказа … С. 345.
-
15. Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 1864. Ч. 1.
-
16. Филипсон Г.И. Воспоминания. 1837–1847 // Осада Кавказа … С. 109.
-
17. Дневник поручика Н.В. Симановского. 2 апреля – 3 октября 1837 г., Кавказ // Звезда. 1999. № 9. С. 388.
-
18. Ольшевский М.Я. Записки. 1844 и другие годы // Осада Кавказа … С. 288.
-
19. Barrett M.T. At the Edge of Empire: The Terek Cossacks and the North Caucasus Frontier, 1700–1860. Boulder ; Oxford (UK), 1999. 264 p.
Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX в. СПб., 2000. 465 с.
Список литературы Природный ландшафт Кавказа как противник Отдельного Кавказского корпуса
- Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII-XIX вв. СПб., 2008. 400 с.
- Венюков М.И. Кавказские воспоминания. 1862-1863 // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX в. СПб., 2000. С. 632.
- Государственный архив Краснодарского края. Ф. 318. Оп. 1. Д. 32. Л. 84, 92.
- Торнау Ф.Ф. Воспоминания русского офицера. М., 2002. 272 с.
- Голицын Н.Б. Жизнеописания генерала от кавалерии Емануеля (Извлечение) // Русские авторы XIX в. о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа / сост. Х.М. Думанов. Т. 1. Нальчик, 2001. 323 с.
- Волконский Н.А. Погром Чечни в 1862 г. // Россия и Кавказ - сквозь два столетия. Исторические чтения. СПб., 2001. 416 с.
- Воспоминания генерал-майора Августа-Вильгельма фон Мерклина о Даргинской экспедиции 1845 г. // Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX в. СПб., 2000. 465 с.
- Торнау Ф.Ф. Воспоминания русского офицера. С. 233.
- Милютин Д.А. Год на Кавказе. 1839-1840 // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX в. СПб., 2000. С. 220.
- 1850. Дневник кн. Дмитрия Лукомского // Звезда. 1998. № 7. С. 146.
- П.К. Из дневника дагестанца. 1859 // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX в. СПб., 2000. С. 568.
- Бенкендорф К.К. Воспоминания. 1845 // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX в. СПб., 2000. С. 345.
- Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 1864. Ч. 1.
- Филипсон Г.И. Воспоминания. 1837-1847 // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX в. СПб., 2000. С. 109.
- Дневник поручика Н.В. Симановского. 2 апреля - 3 октября 1837 г., Кавказ // Звезда. 1999. № 9. С. 388.
- Ольшевский М.Я. Записки. 1844 и другие годы // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX в. СПб., 2000. С. 288.
- Barrett M.T. At the Edge of Empire: The Terek Cossacks and the North Caucasus Frontier, 1700-1860. Boulder; Oxford (UK), 1999. 264 p.