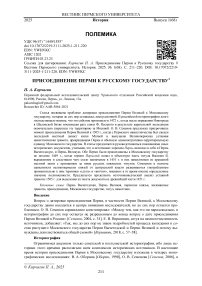Присоединение Перми к Русскому государству
Автор: Корчагин П.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Полемика
Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме датировки присоединения Перми Великой к Московскому государству, которая до сих пор оставалась дискуссионной. В российской историографии долго господствовало мнение, что это событие произошло в 1472 г., когда после поражения Новгорода в Шелонской битве московская рать князя Ф. Пестрого в результате карательной экспедиции окончательно закрепила эту территорию за Москвой. О. В. Семенов предложил приурочивать момент присоединения Перми Великой к 1505 г., когда с Пермского наместничества был сведен последний местный династ князя Матвей и выпущена Великопермская уставная наместническая грамота, превращавшая Пермь в обычную административно-территориальную единицу Московского государства. В статье предлагается руководствоваться показаниями иных исторических документов, учитывая, что в источниках хороним Пермь включал в себя и Пермь Вычегодскую, и Пермь Великую. Обе Перми были присоединены к Московскому государству не позднее 1449 г., когда термин Пермский попал в объектную часть титула Василия II, выражением и следствием чего стало назначение в 1451 г. в них наместников из крещеной местной знати с признанием за ними русских княжеских титулов. Сомнения в полноте зависимости великопермских князей от центральной власти развеиваются употреблением применительно к ним терминов «слуга» и «вотчич», имевших в то время вполне определенное значение подчиненности. Предлагается продолжить источниковедческий анализ уставной грамоты 1505 г. для выделения из текста документа ее древнейшей части 1451 г.
Пермь Вычегодская, Пермь Великая, пермские князья, жалованные грамоты, присоединение, Московское государство, титул, наместник
Короткий адрес: https://sciup.org/147247331
IDR: 147247331 | УДК: 94(47) "1449/1555" | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-211-220
Текст научной статьи Присоединение Перми к Русскому государству
Вопрос о датировке присоединения Перми, в частности Перми Великой, к Московскому государству давно находится в центре внимания исследователей, но до сих пор остается проблемным. О. В. Семенов справедливо констатировал: «Между тем, как это ни парадоксально, в историографии до сих пор остается не разрешенным до конца вопрос о дате присоединения Перми Великой к России» [ Семенов , 2004, с. 34]. Е. В. Вершинин, сетуя на немногочисленность источников, добавляет: «Так, мы до сих пор не знаем подробностей процесса вхождения в состав растущего Московского государства Перми Вычегодской и Перми Великой и потому вынуждены довольствоваться общей схемой» [ Вершинин , 2018, с. 57‒58].
Историография
Ограничимся анализом только советской и постсоветской историографии, ибо лишь историки этого времени располагали всем комплексом исторических источников. В настоящее время история присоединения Перми к Московскому государству изложена в четырех монографических исследованиях: В. А. Оборина [ Оборин , 1990], О. В. Семенова [ Семенов , 2006], в
по необходимости кратком сюжете Е. В. Вершинина в его монографии о русской колонизации Северо-Западной Сибири [ Вершинин , 2018, с. 57‒62] и П. А. Корчагина в соответствующем разделе коллективной монографии по истории местного управления в Пермском крае [История местного управления…, 2021, с. 12‒42]. Однако, поскольку эти тексты представляют собой систематическое изложение авторами своих взглядов, не предполагающее дискуссии, то будем, как правило, обращаться к более ранним статьям ученых.
Взгляды В. А. Оборина развивались во времени, но он всегда подразделял включение Перми Великой в состав Московского государства на фактическое и юридическое. В 1963 г. он писал: «После победы московского войска над новгородским на реке Шелони многие новгородские волости, в том числе и северо-восточные, по отказной грамоте 1471 г. отошли к Москве. Появилось юридическое основание для присоединения Верхнего Прикамья к Русскому государству. Такое присоединение и происходит в 1472 г.» [История Урала…, 1963]; в 1976 г.: «В 1451 г. великий князь Московский Василий II назначает своим наместником в Перми Великой бывшего удельного вереинского князя Михаила Ермолаевича… Фактически Пермь Великая была присоединена к Русскому государству… После победы московского войска над новгородским на реке Шелони многие новгородские волости, в том числе и северо-восточные, по отказной грамоте 1471 г. отошли к Москве... В Москве князь Михаил присягнул на верность Ивану III, и тот отпустил его “на Пермь ж княжити”. Пермь Великая была окончательно закреплена в составе Русского государства» [История Урала…, 1976, с. 41‒43]. В издании 1990 г. мы можем прочесть следующее: «Назначение московского наместника означало мирное включение Перми Великой в состав Русского государства… После поражения в битве при Шелони в 1471 г. Новгород был вынужден дать отказную грамоту на все свои восточные волости, включая пермские, что юридически оформило их включение в состав Русского государства... [походом 1472 г . – П. К. ] было подтверждено вхождение Перми Великой в Русское государство» [ Оборин , 1990, с. 75, 77, 78].
О. В. Семенов считает, что окончательное включение Верхнего Прикамья в состав России произошло только в начале XVI в., когда «на край была распространена московская система управления и характерный для нее управленческий аппарат с “кормлением” и регулярной сменяемостью административных лиц» [ Семенов , 2004, с. 42]. Собственно момент присоединения он приурочивал к 1505 г., когда великий князь «разгневан бысть и свел с Великие Перми вотчича своево князя Матфея… а в Перме велел быти» русскому наместнику В. А. Ковру [Там же]. Е. В. Вершинин в целом был солидарен с О. В. Семеновым: «В 1505 г. Иван 111 “свел” с Перми Великой князя Матвея Великопермского (наследника Михаила). Отныне этой областью управлял присылаемый на время великокняжеский наместник» [ Вершинин , 2018, с. 60]. Общая для Е. В. Вершинина и О. В. Семенова точка зрения восходит к положению М. Н. Тихомирова: «В 1505 г. призрачная самостоятельность пермских князей была ликвидирована окончательно, на их место из Москвы стали назначать наместника» [ Тихомиров , 1962, с. 457].
Автор настоящей статьи предложил относить включение Перми в состав Московского государства к 31 августа 1449 г., когда в докончании Василия II с королем польским и великим князем литовским Казимиром Пермь в объектной части великокняжеского титула впервые фиксируется: «...княз(ь) великии Василеи Васил(ь)евичъ московъскии, и новгородский, и ро-стовъскии, и пермъскии , и иных...» [История местного управления…, 2021, с. 23] (здесь и далее жирный курсив мой. – П. К. ).
Поскольку для того, чтобы разобрать все частности научных дискуссий, потребовалась бы объемная монография, сосредоточимся лишь на принципиально важных пунктах.
Пермь Нераздельная
Грамоты договорные. Весьма интересно проследить упоминания Перми в договорных грамотах Новгорода с великим князем тверскими. Новгородцы всегда числят Пермь среди «волостей новгородских»: «Перемь» в 1264, 1266 и 1270 гг. (три договора с великим князем Ярославом Ярославичем) (Грамоты Великого Новгорода и Пскова, 1949, с. 9, 11, 12); «Пьремь» и «Пьрьмь» в 1304‒1305 гг. (две грамоты великому князю Михаилу Ярославичу с условиями договора) (Там же, с. 15‒17); «Пермь» в 1307‒1308 гг. (с великим князем Михаилом Ярослави- чем) – в имеющейся тверской грамоте текст повторен (Там же, с. 20, 22); «Пермь» в 1326‒1327 гг. (с великим князем Александром Михайловичем) (Там же, с. 27); «Пермь» в 1371 и 1375 гг. (с великим князем Михаилом Александровичем) (Там же, с. 29, 35). К сожалению, в нашем распоряжении есть только один вариант тверского текста договора (1307‒1308), но, вероятно, в утраченных тверских копиях новгородские утверждения о волостях повторялись, и тверичи новгородского суверенитета не отрицали.
Совсем иное дело ‒ договорные грамоты с великим князем московскими. В Яжелбицком договоре (февраль 1456 г.) новгородцы традиционно числят Пермь за собой, но в грамоте московской перечисления волостей вообще нет. То же и в Шелонском договоре (11 августа 1471 г.) (Там же, с. 47‒51). Похоже, что ни Василий Темный, ни Иван III вообще не признавали новгородского суверенитета над Пермской землей. В самом деле, единственные пермские земли, интересовавшие великого князя московского, были упомянуты в Отказной Новгородской грамоте на Двинскую землю (11 августа – 15 декабря 1471 г.) среди других территорий: «…тые земли на Пинезе, Кегролу, и Чакоду, и Пермьския … а то крестное целование Новугороду с вас долой» (Акты, собранные в библиотеках…, 1836, с. 72‒73). Здесь речь идет не о Перми (Вычегодской или Великой), а о пермских волостях на Пинеге, позднее упоминаемых в «Жалованной грамоте великого князя Ивана III Васильевича жителям Перми Вычегодской…» 1485 г.: «А что перемеки на Пенеге в станех Перемскии и Сура Поганая, то удореном до них дела нет, по тому они присуду Двинские земли…» (Грамоты Великого Новгорода и Пскова, 1949, с. 47‒51).
Пермь Великая в договорных документах Новгорода Великого никогда не выделялась особо, хотя как отдельный регион была известна с 1324 г., что должно свидетельствовать о восприятии и Перми Вычегодской, и Перми Великой как единого региона. Москва с 1456 г. игнорировала притязания Новгорода на обе Перми, считая их своими.
Переписи. О. В. Семенов настаивал, что в «1450‒1460-е гг. зависимость Перми Великой от России была во многом формальной2. Михаил Ермолич признавал сюзереном великого князя, выставлял по его требованию вооруженные отряды и, по всей видимости , платил собираемую им же дань; к сожалению, не известно, была ли она постоянной и четко фиксированной, но некоторые основания сомневаться в этом дает известие о срыве задуманной здесь в 1481 г. переписи населения» [ Семенов , 2004, с. 39].
В действительности, сомневаться здесь не в чем: в 1481 г. «пришедшу Асыка князь с пе-лынскими вогуличи на Пермь Великую и приступиша на Чердыню, Чердынь не взял, а Покчу пожегл… Того же лета прислал князь великий Ивашку Гаврилова Вычегодские знамени и луки писати . Писал тое писец луки вычегоцкие, и вымские, и сысоленские, и удоренские, и владыки Филофея вотчину, а на Чердыню не писал луки, потому вогульское разорение » (Документы по истории коми, 1958, с. 262‒263). Источник не дает оснований для двойного толкования, И. Гаврилов прислан был переписывать все Вычегодские земли, включающие территории и собственно вычегодские, и вымские, и сысоленские, и удоренские, и вотчину владыки Филофея. Пермь Великая Чердынь источником тоже считается частью вычегодских земель, в которой перепись проведена не была исключительно из-за катастрофических последствий набега Асыки. Тот же счет был и в 1530 г., когда «присла князь великий Василей Ивашку Боброва с товарищи вычегоцкие луки писати , и писали те писцы луки вычегоцкие, и вымскии, и удорские, и сысольские, и владычни вотчины, и на Великие Перми » (Там же, с. 265). В перечне объектов переписи И. Боброва, практически дословно повторяются обороты 1481 г. с той лишь разницей, что Пермь Великая в данном тексте однозначно стоит в общем ряду. Это ли не доказательство того, что даже в начале XVI в. в столице Пермь Великая рассматривается как часть единого региона Вычегодская земля.
Автору уже приходилось писать о смысле определения Великая применительно к Перми как о показателе теснейших этнических (наверно, уместнее в данном случае говорить даже родственных) связях между двумя пермскими землями [ Корчагин , 2011, с. 121], которые слабо разделялись в юридических и фискальных источниках.
О статусе пермских князей. Весьма длительную дискуссию об этнической принадлежности пермских князей, очевидно, можно уже считать законченной, поскольку основные во- просы уже были сняты в статьях Е. В. Вершинина [Вершинин, 2000, с. 285‒305] и П. А. Корчагина [Корчагин, 2011, с. 114‒126; Корчагин, 2021, с. 179‒183], а вот об их статусе у исследователей общего мнения не сложилось. О. В. Семенов считает «одним из аргументов в пользу того, что Василий Темный не мог назначить в Пермь Великую своего наместника, служит также и отсутствие с его стороны какой-либо демонстрации военной силы (первый поход русской рати в Верхнее Прикамье состоится только в 1462 г.). Да и с чисто формальной стороны эта территория до начала 1470-х гг. принадлежала Новгороду [см.: Соловьев, 1993, с. 80]» [Семенов, 2004, с. 38]. Однако поход 1462 г. был не в Прикамье, а «на Черемису», через Пермь Великую рать только возвращалась, возможно, оказав поддержку епископу Ионе, в этом году крестившему Пермь «добавне». Существование даже формальной зависимости Перми Великой от Новгорода источниками не подтверждается. Попробуем отыскать указание на статус пермских князей в документах.
О слуге. В послании митрополита Симона мирянам Перми Великой (1501 г.) читаем: «В отчину великого государя... в Великую Пермь, сына моего великого князя слузе князю Матвею Михайловичу Пермскому...» [Там же]. Е. В. Вершинин справедливо отвергал вывод М. Н. Тихомирова, сделанный на этом основании, что Пермь Великая была удельным княжеством, и справедливо писал о многозначности термина, приводя, кроме прочего, пример вятских событий 1489 г. После рати на Вятку Иван III «иных вятчан пожалова , издавал поместья в Боровску и в Олексине, в Кременце. И писалися вятченя в слуги великому князю », но только после того, как те заявили: «Мы великому князю челом бьем и покоряемся всей воле великаго князя, а дань даем и службу служим » (Полное собрание русских летописей, 1982, с. 97). Поверстанные поместьями вятчане превратились в рядовых дворян на службе великого князя.
В Вычегодско-Вымской летописи при описании событий 1484‒1885 гг. упоминается владычный слуга Леваш (Документы по истории коми, 1958, с. 263). Он же фигурирует в тексте остяцкой шерти 1484 г.: «Месяца декабря в 31 день. На усть Выми имал мир князи вымские Петр да Федор, да сотник вычегоцкой Казак да владычен слуга Левашь за владычни за все, да вымичи Корос а вычегжена Сидор Он[ки]динов с князми югорьскими и с кодскими с Молда-ном, и княз Петр, княз Федор с Пыткеев (д. б. Пыткеем); а сотник Казак с Пыткеем-же; а владычный слуга Леваш с Пынзеем с Чалмаковым братом; а Кирос с Молдановым сыном а Сидор с Немичевым сыном» [ Бахрушин , 1935, с. 86]. В данном случае мы сталкиваемся с типичным сыном боярским на службе у церковных властей, типом служилого человека, существовавшего по крайней мере до середины XVII в. [ Павлов-Сильванский , 1898, с. 225].
Еще один пример служебных отношений этого времени находим в «Укрепленной крестоцеловальной грамоте кн. Дан. Дм. Холмского вел. кн. Ивану Васильевичу» от 8 марта 1474 г.: «Се яз, княз(ь) Данило Дмитреевич(ь) Холмьскии, что есми бил челом своему г(оспо)д(и)ну и оспод(а)рю великому кн(я)зю Ивану Васил(ь)евичю за свою вину своим оспо-дином Геронтьем митрополитом всея Руси и его детми, и сослужебники еп(и)ск(о)пы ‒ … Фи-лоееемъ, еп(и)ск(о)п(о)мъ пермьским … и оспод(а)рь мои кназ(ь) велики меня, своег(о) слугу , пожаловал, нелюбье свое мне отдал. А мне, кн(я)зю Данилу, своему оспод(а)рю великому кн(я)зю Ивану Васил(ь)евичю и ег(о) детем служити до своего живота . А не отъехати ми от своег(о) оспод(а)ря от великог(о) кн(я)за Ивана Васильевича, ни от его детеи к иному ни х кому» (Акты социально-экономической истории…, 1964, с. 34‒35). Д. Д. Холмский величает Ивана III не иначе как государем, окончательно отказываясь от своих древних вольностей, принимая положение служилого князя.
О служилых князьях подробно писал А. А. Зимин [ Зимин , 1975, с. 28‒60]. О значении в укрепленных и присяжных грамотах термина слуга А. А. Горский [ Горский , 2003, с. 80‒82] и А. А. Дружинин [ Дружинин , 2021, с. 8‒14] писали, как о своеобразном предтече термина холоп , который фиксировал уже отношения подданства, а не вассальной зависимости, уже не столько от великого князя, сколько от царя,3. Причем оба исследователя приурочивали это время к интересующему нас: А. А. Горский – к 1474‒1489 гг., А. А. Дружинин – к 1506‒1522 гг.
Выходит, князь Матвей расценивался властями как подручный, служебный князь и ни о какой его «независимости», «ненадежности» не могло быть и речи.
О вотчиче. О. В. Семенов собственно момент присоединения приурочивал к 1505 г., когда «великий князь “разгневан бысть и свел с Великие Перми вотчича своево князя Матфея и родню и братию ево, а в Перме велел быти” русскому наместнику В. А. Ковру» [ Семенов , 2004, с. 42]. О. В. Семенов подчеркивает, что В. А. Ковер был русским наместником, имея в виду не национальность, а его принадлежность к российскому госаппарату. Но почему-то забывает, что князь Матвей, хотя и был по национальности коми, имел русский княжеский титул и должность наместника в Перми Великой, унаследованную от отца.
В Вычегодско-Вымской летописи под 1502 г. сказано: «Повеле князь великий Иван вым-скому Феодору правити на Пусте-озере волостью Печорою, а на Выме не быти ему, потому место Вымское не порубежное » (Документы по истории коми, 1958, с. 264). Вот четко сформулированная причина отстранения князей вымской, а затем и великопермской ветви общей династии.
Обратим внимание на некоторые детали. Первая: князь Федор Вымский был отправлен на Печору Иваном III, а князя Матвея Великопермского «свел с Великие Перми» уже после смерти великого князя 27 октября 1505 г. его сын великий князь Василий Иванович. За что конкретно Василий III «разгневан бысть» на князя Матвея, неизвестно, но более чем вероятно, что его действия являлись лишь продолжением политика отца. Пермские земли перестали быть фронтиром, а нужда в первоначальной форме управления через представителей местных элит отпала. Вторая: Матвей именуется не по должности – наместником, а вотчичем . Термин этот был подробно рассмотрен Б. А. Успенским: «Что касается слова отчичь ( вотчичъ ), то оно представлено как в западнорусских, так и в великорусских источниках и является общевосточнославянским дериватом от отьцъ . Сочетание отчичъ и дедичъ со значением ‘наследник, наследственный владетель’… Слово отчим (вотчим) означает владетеля земли, имения или угодья, унаследованного от отца, или же вообще наследника вотчины . По отношению к князьям это слово обычно употребляется в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть наследственные права : в великорусских документах оно выступает как наименование законного правителя в ситуации конкурентной борьбы или вообще какого-то противостояния в сфере властных полномочий» [ Успенский , 2021, с. 264‒265].
Наличие у князя Матвея вотчины подтверждается жалованной грамотой Ивана IV чердын-скому Иоанно-Богословскому монастырю от 10 августа 1580 г.: «…да за Богословским же монастырем княжь Матвеевских Великопермьского пустых земель , и лесу, и лугов, в Чердынском уезде…» (Акты исторические…, 1841, с. 397). И, наконец, оба послания митрополита Симона (1501 г.) были направлены « в отчину Великого Государя Царя Русского …» (Там же, с. 166, 168).
А вотчинником в государевой вотчине можно было быть только по государеву пожалованию. Употребление в отношении князя Матвея определения вотчич отнюдь не случайно, и прямо подтверждает его статус наследственного землевладельца и наследственного представителя центральной власти в Перми Великой.
О грамотах князей пермских. Прежде всего необходимо отметить прекрасный источниковедческий анализ О. В. Семенова Великопермской уставной наместнической грамоты [Семенов, 2008, с. 333], без его наиболее исправной публикации собственно исторический анализ документа был бы весьма затруднителен. Однако интерпретация им отдельных мест источника вызывает сомнение. В примечаниях автор пишет: «Л. 158 об. А первых судов и грамот князей Пермских не посуживати. – Статья признает недействительными порядки, существовавшие в Перми Великой до ее вхождения в состав Московского государства. судов – судебных порядков. не посуживати – признавать недействительными, отменять» [Там же, с. 326]. Такая трактовка не кажется безупречной, поскольку автор никак не прокомментировал слово грамот. Фраза о грамотах пермских князей помещена внутри текста переписываемой грамоты 1505 г., заключенная между текстами «И мы, великии государь, слушав их, Данилки и Гришки Иванова челобитья, всех людей Пермские земли пожаловал» и «Да пермичи же били челом мне, царю и великому князю, о том, которой наш наместник в Перми у них будет на нашем жалованье, и они-де посылают к волоку Тюменскому…» [Там же, с. 305]. Не решимся высказать осторожнейшее предположение, что текстом «А первых судов и грамот князей Пермских не посуживати» завершался первоначальный текст грамоты 1505 г., поскольку ниже идет речь о конкуренции купцов из «городов Московские земли и из Новгородские земли, и из Тверские земли» [Там же, с. 308, 309], но в любом случае предложение о первых судах и грамотах содержалось еще в подлиннике 1505 г.
А раз так, то запрет посуживати касался не личных грамот князя Матвея, о которых нам ничего не известно, а грамот всех князей Пермских . Не проходит возражение О. В. Семенова, что «под князьями пермскими здесь могли иметься в виду и не потомки Ермолая» [ Семенов , 2004, с. 41]. Но, кроме Ермолаевых детей и внуков, какие еще были князья Пермские? Назначенный в 1505 г. князь Василий Ковер-Кривоборский был Стародубским, да ему и не имело смысла выпускать грамоты, которые тут же дезавуировались великокняжеской уставной грамотой.
Даже если предположить наличие грамот, исходящих лично от князя Матвея, то кого и как именно он мог жаловать? Разве что дать жалованную вкладную грамоту на свои покчин-ские земельные владения Богословскому монастырю, но собственность обители на жалованные земли отменена властью не была (см. уже цитированную Царскую грамоту в Пермь Великую о неприкосновенности угодьев Чердынского Богословского монастыря от 10 августа 1580 г. с подтверждениями 1600, 1608, 1615 и 1624 гг. (Акты исторические…, 1841, с. 397‒399)). Остальные виды грамот могли быть дарованы только великим князем, князями удельными и церковными властями.
М. Н. Тихомиров писал, что «грамота отличается архаическим характером и указанием на “старину”, существовавшую раньше в Пермской земле» [ Тихомиров , 1962, с. 457], что подталкивает исследователей поискать ее возможный источник. В 1451 г. «прислал князь великий Василей Васильевич на Пермскую землю наместника от роду вереиских [надо – перемских. – П. К. ] князей Ермолая да за ним Ермолаем да за сыном ево Василием правити пермской землей Вычегоцкою , а старшево сына тово Ермолая, Михаила Ермолича, отпустил на Великая Пермь на Чердыню. А ведати им волости вычегоцкие по грамоте наказной по уставной » (Документы по истории коми, 1958, с. 261).
Наместники назначаются на всю Пермскую землю, подразделяемую на пермскую землю Вычегодскую и на Великую Пермь Чердынь, значит, в это время и вымская, и великопермская ветви династии вкупе считались пермскими . Обратим внимание на множественное число местоимения им в последнем предложении. Обязанность ведать распространялась на все княжеское семейство, а не только на его вымскую ветвь. Если бы предложение относилось только к Ермолаю и Василию, то оно было бы помещено перед словами о старшем сыне. Последнее предложение никак не выделяет Михаила Ермолича из ряда московских наместников, а Пермь Великую ‒ из Перми Вычегодской.
Последние слова записи свидетельствуют о существовании особой Пермской уставной наказной грамоты 1451 г., к сожалению, до нас не дошедшей, действие которой распространялось на все пермские земли и которой руководствовались и князь Ермолай, и князь Михаил Ермолич. Именно это и были «первые грамоты князей Пермских».
В 1550 г. уставная грамота была поновлена не только в Перми Великой. Тогда же «прис-ла князь великий Иван жаловалная грамота вычегжаном, вымичем, и удорены и сысолены и всей Пермские земли людем прежние пермские суды и грамоты не посуживати, а судити пермские люди по новой уставной грамоте по царевой » (Там же, с. 265). Автор летописи жил в Усть-Выми, и его информации стоит доверять. Вряд ли он заимствовал дословно совпадающие формулировки из великопермского экземпляра грамоты.
Очевидно, такая циркулярная рассылка в Приуралье уставных грамот была не столько следствием чердынского пожара 30 апреля 1553 г., сколько результатом составления Судебника Ивана Грозного, давшего толчок земской реформе. В самом деле, уже в 1555 г. положения реформы были распространены на Вычегду: «Лета 7063 повеле князь великий Иван Васильевич на Перми Вычегоцкие волостелем4 не быти, а волостелины доходы пооброчить деньгами… Во-лостелиным тиуном и доводчиком и приставом не быти-ж, по тому судят свои судейки излюбленные по уставной грамоте по царевой » (Там же, с. 265‒266).
О сроках присоединения Перми и великокняжеской титулатуре. К сожалению, О. В. Семенов не обратил внимания на указание А. А. Дмитриева о наличии еще в титуле великого князя Василия Темного пермского хоронима [Дмитриев, 1889]. В самом деле, в доконча- нии с королем Казимиром от 31 августа 1449 г. (за 56 лет до предполагаемого включения Перми Великой в состав Московского государства) титул великого князя Василия Васильевича приводится следующим образом: «По бож(ь)еи воли и по нашои любви, бож(ь)ею м(и)л(о)стью се яз, княз(ь) великий Василей Васил(ь)евичъ московъскии, и новгородский, и ростовъский, и пермъский, и иных…» (Духовные и договорные грамоты…, 1950, с. 160).
22 марта 1489 г. (за 16 лет до присоединения) русскому послу Юрию Траханиоту к императору Священной Римской империи Фридриху III Габсбургу было вручено официальное послание русского правительства к императору, в котором Иван III титуловался как «Иоаннъ, Божиею милостию Великий государь всеа Руси, Володимерский, и Московский, и Новогород-ский, и Псковский, и Тферский, и Югорский, и Вятский, и Пермский и иныхъ» (Памятники дипломатических сношений…, 1851, стб. 15). Точно так же он титуловался и в других дипломатических документах этого периода (Там же, стб. 20‒22).
На великокняжеской печати грамоты 1497 г. (за 7 лет до уставной грамоты) помещен титул Ивана III в следующей форме: «Велики кн[я]зь Иоанъ б[о]жиею милостию господарь всея Руси (лицевая сторона) и велики княз[ь] Влад[имирскии] и Московский] и Новгородский] и Пс[ковскии] и Тве[рскии] и Уго[рскии] и Вят[скии] и Пе [ рмскии ] и Бол[гарскии]» [ Кучкин , 1999, с. 79].
Великий князь Василий III 19 июня 1505 г. в письме сыну императора Римской империи Максимилиану именовал себя «Василей, Божьей милостью господарь всеа Русіи и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тферской, и Югорский, и Пермский , и Болгарский, и иных» (Памятники дипломатических сношений…, 1851, стб. 137) за четыре месяца до смерти Ивана III и за полгода до выдачи Великопермской уставной грамоты.
Итак, с 1449 по 1505 г. великие князья московские включали элемент Пермский в территориальный компонент собственного титула. Без сомнения, для московских властей юридически это было не менее значимо, чем выдача уставных, жалованных и иных грамот. Причем это не было просто заявлением для иностранных адресатов, поскольку митрополит Иона около 1452 г. в «Послании вятским воеводам и всем Вятчанам» прямо писал: «И ныне ново, сими часы, воевали есте великого князя вотчину, Сысолу, и Вым, и Вычегду …», ‒ что объективно подтверждает официальный статус пермских земель (Русская историческая библиотека…, 1880, стб. 592‒593).
И уж совсем ясно определено в Духовной грамоте великого князя Ивана III Васильевича (ранее 16 июня 1504 г.): «Да сыну же своему Василью даю город Белоозеро с волостьми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами, со всем с тем, как было при мне… да Вычегду, и Вымь, и Удору, и Сысолу, и со всеми их месты … да Югру и Печеру со всем, да Пермь Великую со всем …» (Духовные и договорные грамоты…, 1950, с. 356). Выходит, что Иванов наследник вовсе не имел надобности в особом юридическом узаконении принадлежности пермских земель, поскольку их унаследовал.
Весьма важно уяснить, какие конкретные события произошли незадолго до 1449 г., которые дали основания Василию Темному распространить территориальную составляющую собственного титула. Устюжский летописный свод повествует о боевых действиях пермских отрядов против князя Шемяки под Устюгом в 1450 г.: «…князь Дмитреи Шемяка город Устюг засел, а земли не воивал, а людей добрых привел к целованию. А которые добрые люди не хотели изменити великому князю Василью, и они не целовали за князя за Дмитрея, и он их казнил: Емельяна Лузсково, да Миню Жугулева, да Давида Долгошеина, да Еуфимья Еживину, метал их в Сухону реку…» (Устюжский летописный свод, 1950, с. 88‒89). Князь Дмитрий заставлял побежденных присягать не Новгороду, а себе как великому князю московскому (в Новгороде его не считали самочинным (Полное собрание русских летописей, 1889, стб. 193)), а добрые люди «Емелька Лузьков да Ефимий Эжвин», которые в Вычегодско-Вымской летописи названы пермскими сотниками (Документы по истории коми, 1958, с. 261), не захотели сложить с себя крестное целование великому князю Василию. Сотники происходили из крещеных обитателей Перми, поскольку имели христианские имена, но при этом характерные коми фамилии, указывающие на происхождение сотников: Е. Лузьков – из района р. Лузы, а Е. Эжвин – с Вычегды (Эжва – коми название этой реки). Вывод очевиден: Лузская Пермца и Пермская земля вычегодская присягнули Москве незадолго до 31 августа 1449 г., когда Василий Темный стал титуловаться Пермским.
Заключение
Итак, хороним Пермь и в юридических текстах, и в фискальной документации по крайней мере до 1530-х гг. подразумевал совокупно и Пермь Вычегодскую, и Пермь Великую. Обе находились в пределах Пермской епархии, и единственное различие между ними заключалось в том, что до 1462 г. прикамская Пермь не была крещена. Это, однако, не мешало причислять ее к вотчинам Ивана III. Вспомним хотя бы прецедент Суры Поганой, которая даже в духовной грамоте Ивана III, судя по названию, оставалась языческой (Духовные и договорные грамоты…, 1950, с. 356). И обе Перми были присоединены к Московскому государству не позднее 1449 г., когда топоним Пермь попал в объектную часть титула Василия II, выражением и следствием чего стало назначение в 1451 г. в них наместников из крещеной местной знати с признанием за ними русских княжеских титулов. Великопермские наместники были вотчинниками и до 1505 г. наследственными представителями центральной власти в Перми Великой со статусом служилых князей, а догадки об их независимости сильно преувеличены.
Список литературы Присоединение Перми к Русскому государству
- Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI‒XVII веках. Л.: Ин-т народов Севера ЦИК СССР им. П.Г. Симловича, 1935. 89 с. EDN: YVLSOS.
- Вершинин Е.В. И еще раз о князьях Вымских и Великопермских // Новгородская Русь: историче-ское пространство и культурное наследие. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000. (Проблемы истории России. Вып. 3). С. 285‒305. EDN: FYLZVG.
- Вершинин Е.В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири в конце XVI‒XVII вв. Екатерин-бург: Демидовский институт, 2018. 504 с. ISBN: 978-5-87858-023-6. EDN: OGZOCQ.
- Горский А.А. О происхождении «холопства» московской знати // Отечественная история. 2003. № 3. С. 80‒82. EDN: OPKLAJ.
- Дмитриев А.А. Пермская старина: сборник исторических статей и материалов, преимущественно о Пермском крае. Вып. 1. Древности бывшей Перми Великой. Пермь, 1889. 197 с.
- Дружинин А.А. Эволюция властных отношений в Московском государстве в укрепленных грамотах конца ХV – первой четверти ХVI века // Вестник Моск. город. пед. ун-та. Исторические науки. 2021. № 1(41). С. 8‒14. DOI: 10.25688/20-76-9105.2021.41.1.01. EDN: SYLKZU.
- Зимин А.А. Служилые князья в Русском государстве конца XV ‒ первой трети XVI в. // Дворян-ство и крепостной строй России XVI‒XVIII веков. М.: Наука, 1975. С. 28‒60.
- История Урала: пособие для студентов, учителей и самообразования: в 2 т. Т. 1. Первобытно-общинный строй: период феодализма: период капитализма. Пермь: Кн. изд-во, 1963. 499 с.
- История Урала: пособие для студентов, учителей и самообразования: в 2 т. Т. 1. Первобытно-общинный строй: период феодализма: период капитализма. 2-е изд. Пермь: Кн. изд-во, 1976. 394 с.
- История местного управления и самоуправления в Пермском крае / под ред. И.К. Кирьянова. Пермь, 2021. 224 с.
- Корчагин П.А. Очерки ранней истории Перми Великой: князья Пермские и Вымские // Вестник Перм. ун-та. История. 2011. Вып. 1(15). С. 114‒126. EDN: NMYJOR.
- Корчагин П.А. В который раз о князьях пермских // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2021. № 3(85). С. 179‒183. DOI: 10.25986/IRI.2021.85.3.014. EDN: QPIBAQ.
- Кучкин В.А. Великокняжеская печать с двуглавым орлом грамоты 1497 г. // Гербовед. 1999. № 6 (38). С. 71‒92.
- Оборин В.А. Заселение и освоение Урала в конце XI – начале XVII века. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1990. 166 с.
- Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди: происхождение русского дворянства. СПб.: Гос. тип., 1898. 330 с.
- Семенов О.В. К вопросу о времени вхождения в состав Московского государства Перми Великой // Изв. Урал. гос. ун-та. 2004. № 31. С. 34‒45.
- Семенов О.В. Великопермская уставная наместническая грамота 1553 г. // Проблемы истории Россия. Вып. 7. Источник и его интерпретации. Екатеринбург: Волот, 2008. С. 295‒333.
- Семенов О.В. Становление и эволюция системы местного управления на Урале во второй поло-вине XV – первой половине XVII в. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2006. 291 с. ISBN: 5-7851-0605-1. EDN: QPFLBB.
- Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 584 с.
- Успенский Б.А. Отчич и дедич в титуле русских государей // Шаги/Steps. 2021. Т. 7, № 3. С. 238‒286. DOI: 10.22394/2412-9410-2021-7-3-238-286. EDN: HWWERN.