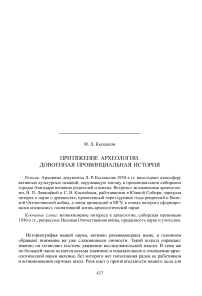Притяжение археологии. Довоенная провинциальная история
Автор: Кызласов И.Л.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: История археологической науки
Статья в выпуске: 241, 2015 года.
Бесплатный доступ
Архивные документы Л. Р. Кызласова 1930-х гг. воссоздают атмосферу активных культурных исканий, окружавшую юношу в провинциальном сибирском городке благодаря влиянию родителей и школы. Встреча с московскими археологами, В. П. Левашёвой и С. В. Киселёвым, работавшими в Южной Сибири, зародила интерес к науке о древностях, пронесенный через суровые годы репрессий и Великой отечественной войны, а затем приведший в МГУ, в стенах которого сформировался специалист, посвятивший жизнь археологической науке.
Возникновение интереса к археологии, сибирская провинция1930-х гг, репрессии, великая отечественная война, преданность науке и учителям
Короткий адрес: https://sciup.org/14328264
IDR: 14328264
Текст научной статьи Притяжение археологии. Довоенная провинциальная история
Историография нашей науки, активно развивающаяся ныне, в основном обращает внимание на уже сложившиеся личности. Такой подход оправдан: именно он позволяет постичь движение исследовательской мысли. В тени же по большей части остается весьма значимое и показательное в отношении археологической науки явление, без которого нет пополнения рядов ее работников и возникновения научных школ. Речь идет о притягательности нашего дела для отрочества, о сложении конкретных юношеских судеб, устремившихся к археологии и сформировавшихся благодаря ей. Однако эта привлекательность не существует сама по себе, она создается идущими в народ профессионалами. И старшие, можно также сказать, первые советские, археологи московской школы оказались в этом деле весьма активны.
Архивные материалы позволяют мне на конкретном жизненном примере рассказать о силе притягательного воздействия, оказанного на провинциального подростка в условиях довоенной Сибири двумя даровитыми учениками В. А. Городцова1. Оба они начали свои исследования сразу же по окончании университетского курса. Варвара Павловна Левашёва (1901–1974 гг.), в 1926 г. получив диплом, уже через две недели переезжает из Москвы в Омск и, став сотрудником Западно‑Сибирского краеведческого музея, проводит разведки и раскопки в Прииртышье. В 1929 г. она перебирается в Минусинск, заняв место в местном музее, и по 1946 г. изучает древности в долинах Среднего Енисея, послевоенная ее деятельность связана с Государственным Историческим музеем. Всюду в сибирских пределах исследовательница создает детские археологические кружки и привлекает к раскопкам школьников. Сергей Владимирович Киселёв (1905–1962 гг.) с 1928 г. ежегодно и с большим успехом проводит полевые работы в Южной и Восточной Сибири: в Хакасско‑Минусинской котловине и на Алтае, в Туве и в Забайкалье. И всюду на его раскопках бывают многочисленные экскурсанты, итоги охотно докладываются в местных учреждениях науки, образования и культуры, проходят публичные лекции, организуются выступления по радио.
В Хакасии под влияние двух этих замечательных, полных исследовательского энтузиазма ученых попал совсем юный тогда Леонид Романович Кызласов. Интерес к истории и древностям вместе с влечением к широкому культурному кругозору был заложен в парнишку его родителями с малолетства. Вместе с тем его мальчишеские дневники рисуют удивительно цельное стремление к знаниям, отличавшее в то время жителей малого сибирского городка в целом. Оба этих обстоятельства следует принять во внимание. Однако речь у нас идет о прививании пристрастия к особенностям археологического знания и специфическим методам получения данных, необходимых для археологического познания.
В 1930 г. семья Романа Афанасьевича и Христины Витольдовны Кызласовых, включая 6‑летнего сына и 3‑летнюю дочь, приехала в Ленинград для получения высшего образования. Родители много сделали, чтобы погрузить детей в культурную атмосферу этого удивительного города, что оказало на них чрезвычайно большое воздействие, на всю жизнь зародив интерес к вершинам человеческого духа. Именно годы раннего детства вызвали в хакасском мальчике с тупиковой железнодорожной станции Абакан (еще не города) тягу к европейской культуре и чувство, со временем переросшее в глубокое личное убеждение, в основу профессиональной философии, – понимание единства и соотнесенности культуры всего человечества.
В 1934 г. семья вернулась в Абакан, где для сына началась учеба в семилетней Железнодорожной неполной средней школе (ЖДНСШ), позднее – в школе № 1 молодого города. Хотя советское образование независимо от местонахождения и численности школы было направлено на знакомство каждого юного гражданина с основами общечеловеческих знаний и культуры, школьной программы оказалось недостаточно для юношей тогдашнего Абакана. Круг ближайших товарищей (русский, украинец, еврей, бурят и хакас) собирался 2-3 раза в неделю и читал друг другу рефераты по истории искусства, философии, произведения Шекспира, иных классиков, учил по самоучителю французский. В одной из тетрадей Л. Р. Кызласова той поры велся «Список книг, мною прочитанных». К 1940-му г. он составил 904 номера. Из художественных, литературно-искусствоведческих произведений, сочинений, посвященных античности (включая и древних авторов), выделим показательные научно‑популярные книги: «Практику самообразования» Н. А. Рубакина и «Саморазвитие умственное, нравственное и практическое» С. Смайлса (из которой сделаны выписки), а также «Занимательную минералогию» А. Е. Ферсмана, «Минералы и породы» Н. И. Безбородько, «Земля, ее происхождение и развитие» В. И. Крокоса, «Охотники за микробами» и «Стоит ли им жить» П. де Крюи, «Карта рассказывает» Н. Константинова, «Занимательную технику в прошлом» В. И. Лебедева и «Детство человечества» В. К. Никольского.
Особенно важны свидетельства того, как рано формировался в Леониде Романовиче сибиревед и тюрколог, исследователь Центральной Азии – в этом же списке прочитанного к 16 годам в разное время названы известные специальные исследования – три И. П. Кузнецова‑Красноярского2, шесть трудов Н. Ф. Катанова3, две работы В. В. Радлова4, «Минусинские и ачинские инородцы (материалы для изучения)» А. А. Кузнецовой и П. Е. Кулакова; «Хакасы» Н. Н. Козьмина, «Из прошлого Хакасии (историко‑экономический очерк)» В. К. Хотяновского, «Население Сибирского края: русские и туземцы» А. Р. Шнейдера и Л. Н. Добровой‑Ядринцевой, «Красноярский бунт 1695–98 гг.» Н. Н. Оглоблина, «Чтения по истории Сибири» Н. Н. Фирсова (вып. II), «Русская земля. т. Х. Очерки Восточной Сибири», составитель И. В. Дроздов; «Живописная Россия. Т. XII, ч. 1. Восточная Сибирь», «Сибирь и ссылка» Дж. Кеннана, «По Абакану: с Алтая на Енисей» Н. Северина, книги Ш. М. Левина
«Д. А. Клеменц», П. К. Козлова «Н. М. Пржевальский» и «Дары Монголии», Д. Каррутерса «Неведомая Монголия» (т. I).
Вот, оказывается, какими возможностями в 30-е гг. обладал в Абакане заинтересованный читатель. Несомненно, большую роль сыграла в раннем развитии домашняя библиотека отца, который, по словам Л. Р. Кызласова, специально собирал научную литературу – в той же школьной тетради есть незавершенный «Список имеющихся книг», составлявшийся в 1939 или 1940 г. и содержащий названия 12 произведений, 9 из которых были прочитаны. К сожалению, узнать состав домашней библиотеки уже не удастся - она погибла в годы войны. Известно другое. Хотя Роман Афанасьевич хотел видеть сына микробиологом, спасающим людей от болезней, в общении с ним старший Кызласов не раз делился душевной болью, страдая от того, что история хакасов остается неизученной.
В ноябре 1937 г. по совершенно вздорному политическому обвинению был арестован и в сентябре 1938 г. казнен в Красноярске Р. А. Кызласов. Семья не знала о его гибели. Ко дню расставания с отцом старший сын достиг 13 лет, дочь – 10, младший сын был полугодовалым младенцем, а их матери было 34 года. Следует, однако, видеть, что к этому раннему возрасту отец уже успел заложить в своих детей понимание смысла достойной жизни. Беспредельно трагическая эпоха 20-х и 30-х годов была все же устремлена в будущее. Она возвестила и осуществляла, через муки и гибель лучших своих сынов, право каждого народа на чувство собственного достоинства, на достойную и, наконец-то, равную жизнь с другими народами многонациональной единой страны. Сохраняя эти возможности для родного народа и троих собственных детей, не скрываясь, лицом принял злые наветы и смерть отец Леонида Романовича. Та же светлая надежда и личное мужество не покинули мать, и постигшая семью трагедия не остановила в Л. Р. Кызласове стремление к знаниям. Большинство названных книг прочитано им в те самые 1938 и 1939 гг.
Летом 1938 г. пытливый школьник, наблюдавший проходившие в Абакане археологические работы, был допущен на раскоп проводившей их В. П. Левашёвой. Выпущенная исследовательницей в следующем 1939 г. книга «Из далекого прошлого южной части Красноярского края» вошла в перечень проштудированной подростком литературы. Еще ранее, уже с 11 лет, Минусинский музей, в котором работала Варвара Павловна, с его великолепным собранием древностей был знаком парню, с раннего детства воспринявшему в Ленинграде трепетное, а затем и вдумчивое отношение к музейным коллекциям. Имя В. П. Левашевой Леонид Романович неизменно ставил первой в перечне своих учителей в науке, отмечал присущие ей высокие человеческие качества, посвящал ее работам специальные исследования (Кызласов, 1983. С. 11, 12; 1997. С. 23; 1998. С. 7; 2000а; 2000б; 2001. С. 3-17). Варвара Павловна внимательно следила за делами своего археологического крестника и издала рецензию на его первую монографию (Левашева, 1962). Их тесное, по‑дружески теплое общение продолжалось позднее в Москве, переросло в семейную привязанность (Кызласова, 2010. С. 766, 767). Вместе участвовали они в издании коллективных трудов (Киселев и др., 1965), вдвоем опубликовали и некролог, прощаясь с С. В. Киселевым (Кызласов, Левашева, 1965). Редактирование рукописи статьи, посвященной В. П. Левашевой (Кызласова, 2010) 5, оказалось последней законченной работой в жизни Л. Р. Кызласова.
Именно С. В. Киселев, первая встреча с которым состоялась в Абакане в 1940 г., оказался для Леонида Романовича вторым и главным проводником в археологию. Прочитанная в городском саду публичная лекция «История хакасского народа», как и сам темпераментно выступавший профессор, остались в памяти юноши. Именно тогда вместе с лирическими стихами молодости он, опираясь на выписки из работы Н. Ф. Катанова «Замечания о богатырских поэмах минусинских тюрков», начинает писать эпико‑историческую поэму о хакасском средневековье. Юный автор еще не знал, что она будет завершена лишь в 1962 г., получит название «Сампир» и окажется посвященной борьбе с древними уйгурами, археологические памятники которых и выявил к тому времени сам Л. Р. Кызласов. Удивительно, но некоторые написанные школьником части после известной переделки вошли в завершенную поэму. Таковы, например, зачин «Хайджи»6 (« Расскажи-ка мне, о, парень… »), повествующий о встрече старца с археологом, и «Песня тюргешки» ( «Тонкий, тонкий серпик-месяц» , в школьной тетради еще под названием «Песня девушки», но уже с пометкой «для эп. поэмы»).
В абаканской школе № 1, как во многих других школах страны, выпускной вечер проходил 21 июня 1941 г. Отгулявших ночь, счастливых и полных надежд выпускников дома встретила весть о войне. Юноши‑одноклассники в первый же внешкольный день вновь встретились – у областного военкомата. Л. Кызласову было 17 лет, и в призыве ему отказали. Решено было продолжить образование. Перед войной парень собирался стать геологом. Быть может, потому, что слово «археолог» обычно не отделяется людьми от геологических профессий. К подготовленному в 1940 г. списку из 13 специальных книг по геологии, минералогии, геохимии сбоку приписано и «Краткое руководство по археологии» А. П. Смирнова и Н. П. Милонова (М., 1939) 7. Здесь же обширные выписки с характеристикой минералов 8. В итоге аттестат о среднем образовании и заявление о допуске к экзаменам были отправлены в Горный институт в Ленинград – вероятно, юноше очень хотелось вернуться в прекрасный город своего раннего детства. Оттуда пришел официальный вызов, и абитуриент тронулся в дорогу. Но до‑ ехать ему удалось только до Новосибирска, где старый мудрый кассир отказался компостировать билет молодого человека, ехавшего на запад, откуда приходили уже эшелоны с беженцами. Расхвалив «наш сибирский университет» в Томске, добрый человек именно туда и переоформил билет разобиженного парня.
Оба не могли знать, что благодаря этому Леонид Кызласов избежал начавшейся уже 8 сентября фашистской блокады Ленинграда, из которой студент‑первокурсник, конечно, не выбрался бы. От голода умерло 97 % погибших, а оставшиеся 560 тысяч составляли только пятую часть жителей довоенного города.
Именно с лета 1941 г. в ТГУ начало работать археологическое отделение историко‑филологического факультета (состоялся лишь второй его набор), на который, узнав о новой специализации, и поступил в конце июля Кызласов. Обеспокоенная таким поворотом, мать в нескольких письмах выспрашивала 17‑летнего сына, как так случилось, что он, желая поступить в горный институт, вдруг решил стать историком, и какую специальность он приобретет по окончании вуза.
Состав преподавателей в Томске оказался редкостным – среди сотрудников факультета были профессора и доценты МГУ, Киевского, Харьковского, Тартуского университетов, эвакуированные с запада. Один из них, Р. М. Самарин, специалист по западноевропейской литературе, был удивлен, когда после лекции о Джонатане Свифте студент рассказал ему о вхождении истории Гулливера и лилипутов в хакасский эпический фольклор. В 1945 г. профессор поведал об этом случае в журнале «International literature». Так, не названный в статье по имени, первокурсник Л. Кызласов, еще в школе узнавший о сюжете из книги Н. Ф. Катанова «Образцы народной литературы тюркских племен», обогатил отечественное и английское литературоведение. С филологом Р. М. Самариным он вновь встретился, поступив после войны в Московский университет.
Тот учебный год был для первокурсника тяжелым: студенты привлекались к строительству железной дороги, уборке хлеба на полях, литью минных корпусов на оборонном заводе. Расплачивались с ними хлебом и рабочими карточками – осенью в Томске начался голод, усилившийся к 1942 г. Иногородние студенты разъехались по домам, зимою Л. Кызласов остался в холодном общежитии один, и декан факультета З. Я. Бояршинова регулярно навещала его (жив ли, здоров ли?). Парень учился с наслаждением, после занятий до ночи засиживаясь в богатой книгами Научной библиотеке ТГУ. Тетради со сделанными там многочисленными выписками стояли в московском кабинете ученого и использовались до конца жизни. Окончив лишь 1 курс, Л. Р. Кызласов с тех пор всегда считал историко‑филологическое образование наиболее гармоничным для гуманитария. Хранились и томские тетради с собственными поэтическими опытами лирически настроенного юноши.
В феврале 1942 г. он единожды выезжал домой – на похороны своей 39‑летней матери. Сдав летнюю сессию, студент вернулся в Абакан, где на руках бабушки и деда оставались его сестра‑подросток и малолетний брат. Но мечта об учебе оставалась. В марте 1943 г., судя по дате, уже пребывая в учебном танковом полку в Омске, юноша направил в ТГУ заявление о зачислении на 2 курс заочного отделения.
В Рабоче‑крестьянскую Красную армию достигший 18 лет Л. Кызласов был мобилизован в сентябре 1942 г. областным военкоматом в г. Абакане. На сборном пункте в Бердске (под Новосибирском) офицер‑танкист, отбиравший призывников для своего рода войск, дал на построении команду: «Трактористы и студенты – шаг вперед!». Такой выбор понятен – трактористы уже знали технику, а студенты были способны быстро ее освоить. Осенью 1942 г. первокурсник
ТГУ стал курсантом 4-го Отдельного учебного танкового полка Сибирского военного округа, расквартированного в Омске.
Весной 1945 г. в абаканскую избушку на Черногорской улице пришло адресованное 18‑летней Кларе Романовне похоронное извещение о том, что « ее брат младший сержант Кызласов Леонид Романович в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 23 марта 1945 г. и похоронен с отданием воинских почестей Германия, Силезия, дер. Бладен, высота 292».
Но, согласно уцелевшему дневнику, танкист попал в пехотный госпиталь, «где вечером 23-го мне сделали операцию. Кисть отняли » . За день до 21-го дня рождения парень стал одноруким. Где там отдание воинских почестей и торжественное захоронение. 29 марта «написал письмо домой, что ранен и всё» . Согласно архиву нашей армии (доступному благодаря Интернету), Л. Р. Кызласов всю жизнь так и числился в списке безвозвратных потерь РККА с того дня – 23 марта 1945 г.
Затем была череда госпиталей – сначала армейский, затем эвакуационный из Гляйвица (тогда Германия, в результате войны – Польша: Гливице) во Львов (03.04.1945: «Теперь я в Союзе». «Мы ехали хорошо. В настоящем санпоезде, а в большинстве случаев возят “летучки” – товарняк» ) и дальше на восток и юг. С 14.04 – Ессентуки, госпиталь № 5416. За три месяца бойца подлечили (по косточкам собрав и раздробленный локоть), 21.07 он получил справку о ранении и 23.07 уехал из Минвод, но не домой в Хакасию, а сразу в Москву, где уже в день приезда, 26 июля, подал заявление в Московский университет. Еще не демобилизованного фронтовика всерьез беспокоило, может ли однорукий человек быть археологом. Однако профессор А. В. Арциховский, основатель и руководитель кафедры археологии на историческом факультете, решил вопрос короткой фразой: «Очень хорошо, археологов‑танкистов еще не было», и Леонид Романович был зачислен. С тех пор он никогда не расставался с МГУ.
Научным руководителем студента, а затем и аспиранта Кызласова стал тот самый профессор С. В. Киселёв, которого ему довелось впервые услышать еще школьником в городском парке довоенного Абакана. Прошедший огонь, воду и медные трубы, израненный танкист сумел отыскать свой научный путь и выйти на него. Нам не удастся обозреть на этих страницах редчайшее исследовательское величие Сергея Владимировича Киселёва. Важнее указать на то, что об этом не раз писал его ученик – Л. Р. Кызласов, и обнародованные строки дают возможность понять, как им самим воспринимался его мудрый наставник ( Кызласов , 1975а; 1975б; 1983. С. 12, 13; 1995; 1997. С. 19–26; 1998. С. 84; 2001. С. 15; 2003; 2005).
Преданность археологии оказалась неотделима от преданности учителям. Такова природа научной школы.
Список литературы Притяжение археологии. Довоенная провинциальная история
- Киселев С. В., Евтюхова Л. А., Кызласов Л. Р., Мерперт Н. Я., Левашова В. П., 1965. Древнемонгольские города. М.: Наука. 371 с.
- Кызласов Л. Р., 1975а. Учитель//ВМУ Серия 9: История. № 1. С. 93-96.
- Кызласов Л. Р., 1975б. Учитель: К 70-летию со дня рождения С. В. Киселева//Енисей: лит. альманах. Красноярск. № 1. С. 71-74.
- Кызласов Л. Р., 1983. обретение пути в науку/Ред. В. Л. Янин. М.: Изд-во МГУ. с. 7-15.
- Кызласов Л. Р., 1995. с. В. Киселев -учитель учителей//РА. № 4. с. 162-166.
- Кызласов Л. Р., 1997. Портреты учителей -создателей советской археологии//ВМУ. серия 8: История. № 4. с. 3-29.
- Кызласов Л. Р., 1998. В сибирию неведомую за письменами таинственными. Абакан: Роса. 72 с.
- Кызласов Л. Р., 2000а. К истории раскопок города гуннского наместника на р. Ташебе//ВМУ. серия 8: История. с. 98-107.
- Кызласов Л. Р., 2000б. К истории РАскопок города гуннского наместника на р. Ташебе//РА. № 2. с. 224-228.
- Кызласов Л. Р., 2001. Гуннский дворец на Енисее: Проблема ранней государственности Южной сибири. М.: Восточная литература. 176 с.
- Кызласов Л. Р., 2003. Киселев сергей Владимирович (1905-1962 гг.)//древности Алтая. № 11. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т. с. 20-22.
- Кызласов Л. Р., 2005. сергей Владимирович Киселев (1905-1962 гг.) и Лидия Алексеевна Евтюхова (1903-1974 гг.)//РА. № 3. с. 156-160.
- Кызласов Л. Р., Левашева В. П., 1965. сергей Владимирович Киселев//Новое в советской археологии/отв. ред. Е. И. Крупнов. М.: Наука. с. 7-12.
- Кызласова И. Л., 2010. об археологе В. П. Левашевой и ее отце протоиерее П. Н. Левашеве//Человек и древности: памяти А. А. Формозова (1928-2009)/отв. ред.: И. С. Каменецкий, А. Н. Сорокин. М.: Гриф и К. с. 751-769.
- Левашева В. П., 1962. Рец. на кн.: Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины (I в. до н. э. -V в. н. э.). Издательство МГУ, 1960, 197 стр. + 62 рис. + табл. Тираж 1100. Цена 17 руб.//СА. № 3. с. 322-324.