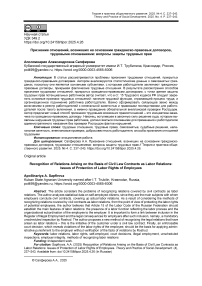Признание отношений, возникших на основании гражданско-правовых договоров, трудовыми отношениями: вопросы защиты трудовых прав
Автор: Сапфирова А.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы признания трудовыми отношений, прикрытых гражданско-правовыми договорами. Автором анализируются статистические данные о самозанятых гражданах, поскольку они являются основными субъектами, с которыми работодатели заключают гражданско-правовые договоры, прикрывая фактические трудовые отношения. В результате рассмотрения способов признания трудовыми отношений, прикрытых гражданско-правовыми договорами, с точки зрения защиты трудовых прав потенциальных работников автор считает, что в ст. 15 Трудового кодекса РФ следует закрепить основные признаки трудовых отношений: наличие трудовой функции, отражающей процесс труда, и организационное подчинение работника работодателю. Важно сформировать связующее звено между включением в реестр работодателей с нелегальной занятостью и правовыми последствиями для работодателей после такого включения, а именно проведение обязательной внеплановой проверки Рострудом. Автор предлагает новый способ признания трудовыми возникших правоотношений - это инициатива заказчика по гражданско-правовому договору. Наконец, вступившее в законную силу решение суда, которым выявлены нарушения трудовых прав работника, должно явиться основанием для применения к работодателю административного наказания без проверки Рострудом фактов нарушений.
Трудовые отношения, трудовые права, самозанятые, судебные решения, нелегальная занятость, внеплановые проверки, добросовестность работодателя, способы признания отношений трудовыми
Короткий адрес: https://sciup.org/149148298
IDR: 149148298 | УДК: 349.2 | DOI: 10.24158/tipor.2025.4.26
Текст научной статьи Признание отношений, возникших на основании гражданско-правовых договоров, трудовыми отношениями: вопросы защиты трудовых прав
Вопросы признания трудовыми отношений, прикрытых гражданско-правовыми договорами, в настоящее время являются наиболее актуальными и в теоретическом, и в практическом плане. Уклонение работодателей от заключения трудовых договоров и вуалирование трудовых отношений гражданско-правовыми договорами ведет к нарушениям трудовых прав граждан, недоплатам в бюджет и Социальный фонд России. Недоплаты приводят к тому, что нарушается поступление страховых взносов на содержание старшего поколения, что негативно отражается в том числе на сохранении населения России, повышении благополучия людей1.
Число исследуемых нарушений особенно увеличилось с введением в 2019 г. такой категории занятых граждан, как самозанятые. В настоящее время их количество стремительно возрастает. Так, в России в 2022 г. число самозанятых было 6,5 млн человек, в 2023 – уже более 9 млн2, а в 2024 г. – свыше 12 млн человек3. Максимальное количество самозанятых зарегистрировано в Москве (1,914 млн), на четвертом месте – Краснодарский край (606,4 тыс.), в котором число самозанятых за последние 2 года увеличилось в 1,5 раза4.
Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что труд самозанятых не должен регулироваться нормами трудового права, это гражданско-правовые отношения, возникающие, как правило, между заказчиком и исполнителем работ (услуг) (Серова, 2019). Однако потенциальные работодатели нередко используют договоры с самозанятыми в качестве прикрытия фактических трудовых отношений. В результате количество чеков, выданных самозанятым одному и тому же работодателю, одинаковые и периодические суммы выдачи самозанятому от одного и того же работодателя не могли не привлечь внимания органов государства, которые осуществляют надзор за соблюдением отраслевого законодательства. Причем значительный количественный скачок самозанятых резко оказался в фокусе особого внимания Федеральной налоговой службы (ФНС), хотя должен был бы быть основным нарушением трудовых прав, выявленных Федеральной службой по труду и занятости (Рострудом). Очевидно, в силу моратория на плановые и внеплановые проверки, которые проводились в последние годы государственными инспекторами труда с многочисленными ограничениями их компетенций, Роструд не смог занять лидирующие позиции в вопросе признания трудовыми отношений, прикрытых гражданско-правовыми договорами.
При этом для нивелирования огромного количества нарушений трудовых прав в виде неоформленных трудовых отношений либо оформленных ненадлежащих образом с 1 марта 2024 г. в субъектах РФ образованы межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости (в Краснодарском крае такая комиссия стала функционировать с августа 2024 г.5), а с 1 января 2025 г. введется реестр работодателей с нелегальной занятостью6. Несомненно, такие превентивные меры в совокупности будут способствовать снижению числа заключенных договоров, прикрывающих фактические трудовые отношения, но, к сожалению, их недостаточно, потому что эти меры в основе не содержат экономического побудителя выполнять требования законодательства. Меры главным образом выражаются в моральном порицании работодателя. Так, ФНС, используя индикаторы риска, должна передавать в межведомственную комиссию субъекта РФ по противодействию нелегальной занятости сведения о фактах (признаках) нелегальной занятости7; а в Роструд и государственные инспекции труда в субъектах РФ, помимо указанных сведений, – еще и информацию о фактических работодателях, использующих труд работников с признаками прикрытия трудовых отношений гражданско-правовыми договорами, или без оформления договоров1. Конечно, это правовые меры, поскольку влекут правовые последствия для работодателей в виде внеплановых проверок Роструда, количество оснований для проведения которых значительно увеличилось после 1 января 2025 г.
В то же время какие правовые последствия наступают для работодателей с нелегальной занятостью при включении их в соответствующий реестр? Анализ норм права показывает, что практически никаких правовых последствий не наступает, кроме того что включенные в него работодатели будут относиться к категории недобросовестных.
Обратившись к ст. 8 Федерального закона № 248-ФЗ2, которая устанавливает приоритет профилактических мероприятий и необходимость побуждения органов надзора к стимулированию добросовестного соблюдения обязательных требований, в том числе в сфере труда, делаем вывод, что пока для работодателей с нелегальной занятостью возникают только моральные последствия при включении их в данный реестр3.
Проанализируем способы признания трудовыми отношений, прикрытых гражданско-правовыми договорами, с точки зрения защиты трудовых прав потенциальных работников. Сразу оговоримся, что нормы Трудового кодекса РФ не обязательно должны соответствовать нормам Гражданского кодекса РФ в части ссылки на систему гражданско-правовых договоров, которые заключают недобросовестные работодатели. Достаточно установить использование личного труда в процессе исполнения таких договоров. Поэтому многочисленность гражданско-правовых договоров и отсутствие четкого их перечисления (при признании отношений трудовыми), что смущает некоторых ученых (Сонин, Елькина, 2020), правильнее было бы нивелировать и закрепить указанием на гражданско-правовые договоры с элементами труда (их предметом должно быть выполнение работ или оказание услуг), содержание которых отвечает требованиям ст. 15 Трудового кодекса РФ.
Итак, способы признания трудовыми отношений, прикрытых гражданско-правовыми договорами, отражены в ст. 19.1 Трудового кодекса РФ. В данной норме указаны два способа: работодатель признает нарушение им трудовых прав по инициативе гражданина либо суд признает возникшие отношения трудовыми по иску гражданина, а также иного органа или лица. Здесь нельзя не согласиться с наличием в данном случае «межотраслевой переквалификации договоров» (Тарусина и др., 2017).
При реализации первого способа потенциальный работник направляет работодателю письменное заявление. Думается, что данный способ признания отношений трудовыми можно было бы назвать способом самозащиты трудовых прав (Адриановская, 2022). Причем письменное заявление может быть подано как в бумажном виде, так и в электронном – подписанное электронной под-писью4. Заявление работник представляет, когда от него лично исходит инициатива в признании отношений трудовыми либо когда эта инициатива проявляется по результатам проверки, проведенной государственной инспекцией труда в субъекте РФ по жалобе гражданина.
Реализация второго способа означает обращение потенциального работника в суд за защитой нарушенных прав либо направление в суд государственным инспектором труда или иными органами и лицами материала, подтверждающего нарушение трудовых прав. Здесь следует остановиться на рассмотрении вопроса об «иных органах и лицах». Дело в том, что такая редакция абз. 3 ст. 19.1 Трудового кодекса РФ порождает, по мнению ученых, трудности понимания того, о каких органах и лицах идет речь (Джиоев, 2015; Избиенова, Чупракова, 2018).
Нам представляется, что никаких сложностей не должно возникать, так как законодатель имеет в виду прокурора (ст. 45 ГПК РФ), профсоюз (Федеральный закон № 10-ФФЗ5), возможно, даже ФНС, которая вправе обратиться в суд с иском о взыскании с работодателя недоплаченных сумм в бюджет и Социальный фонд России, и т. д. Здесь нельзя не подчеркнуть тот факт, что арбитражные суды фактически расширили свою компетенцию, признавая трудовыми отношения, прикрытые гражданско-правовыми договорами, по искам ФНС, которые по своим критериям при- меняют к возникшим правоотношениям признаки трудовых отношений. В арбитражных судах ФНС доказывает наличие трудовых отношений практически во всех случаях1.
Анализ способов признания трудовыми отношений, прикрытых гражданско-правовыми договорами, указанных в ст. 19.1 Трудового кодекса РФ, позволяет сделать несколько выводов.
Во-первых, помимо двух очевидных способов усматривается еще один – требование государственного инспектора труда в виде выданного работодателю предписания. Это значит, что инспекции фактически предоставлено право, которого она была лишена с принятием Трудового кодекса РФ в 2002 г. и которое ей «возвратили» в 2013 г., – право признавать трудовыми отношения, прикрытые гражданско-правовыми договорами. Конечно, государственные инспекторы труда признают трудовыми отношения в бесспорных ситуациях, а работодатели при несогласии вправе обжаловать предписания. В данном случае обжалование происходит по правилам Федерального закона № 248-ФЗ2 и Кодекса административного судопроизводства РФ, т. е. с обязательным досудебным рассмотрением жалобы вышестоящим органом (должностным лицом).
Во-вторых, работодатель может принять решение восстановить нарушенные им трудовые права только при обращении к нему потенциального работника. Если же работодатель в целях устранения исследуемого нами нарушения трудовых прав пожелает самостоятельно признать отношения трудовыми, он не сможет это сделать. Конечно, работодатель может обратиться к потенциальному работнику с просьбой подачи им письменного заявления, но у работника есть право отказа работодателю. Складывается ситуация, когда правомерное поведение работодателя зависит от усмотрения работника. Полагаем, что это не отвечает интересам работодателя и нарушает баланс защиты интересов работников и работодателей, который закреплен в ст. 1 Трудового кодекса РФ.
Для исключения таких ситуаций ученые предлагают изменить редакцию ч. 1 ст. 19.1 Трудового кодекса РФ и ввести в качестве новых способов признания соглашение сторон гражданско-правового договора и выдачу предписания (Сонин, Елькина, 2020). Поддерживая в целом это предложение, считаем необходимым его скорректировать указанием не на соглашение сторон, а на инициативу потенциального работодателя в признании отношений трудовыми, поскольку соглашение предполагает волеизъявление двух сторон, а при наличии такого способа признания, как письменное заявление потенциального работника, нецелесообразно игнорировать желание работодателя при отсутствии воли работника.
В ч. 2 ст. 19.1 Трудового кодекса РФ дается ссылка на сроки, в пределах которых можно обратиться в суд с иском о признании трудовыми отношений, возникших на основе гражданско-правовых договоров. Применяя ст. 392 Трудового кодекса РФ, констатируем, что иск может быть подан в течение 3 месяцев со дня, когда потенциальный работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам о взыскании невыплаченной заработной платы – 1 год со дня установленного срока выплаты зарплаты.
Гражданин может знать или не знать, что с ним заключен гражданско-правовой договор вместо трудового договора, но, обращаясь в суд и требуя признания отношений трудовыми и взыскания недополученной заработной платы за весь период заключения с ним гражданско-правовых договоров оказания услуг, гражданин уже знает, что его трудовые отношения прикрыты гражданско-правовыми договорами. Здесь важно соблюсти сроки обращения в суд, а мнения судебных инстанций по поводу сроков обращения по таким искам, включая взыскание недополученной заработной платы, разделились. Верховный Суд РФ, поставив точку в этом споре, указал, что срок давности по спорам о зарплате начинает течь с момента признания отношений трудовыми. Именно поэтому при признании судом трудовыми отношений, прикрытых гражданско-правовыми договорами, срок давности обращения в суд за взысканием заработной платы, недоплаченной гражданину, составляет 1 год со дня признания отношений трудовыми3.
Обратим внимание на то, что в процессе доказывания в суде наличия трудовых отношений, согласно ч. 3 ст. 19.1 Трудового кодекса РФ, неустранимые сомнения толкуются в пользу признания отношений трудовыми. Признаки, свидетельствующие об этих отношениях, давно описаны в специальной литературе, отчасти закреплены в ст. 15 Трудового кодекса РФ и все равно вызывают бурные дискуссии среди правоприменителей, что подчеркивается многими учеными (Шатверян, Вислобоков, 2023). Что же заставляет их неоднократно возвращаться к этой теме?
Ю.И. Клепалова, Ю.А. Кучина обоснованно выделили в качестве причины регулирование видов договоров нормами разных отраслей права, что порождает разные способы защиты трудовых прав и предоставляемых гарантий (2023). Думается, что у указанной причины есть еще и экономическое содержание, а именно стремительное развитие цифровой экономики. Цифра позволяет неординарно использовать труд человека, а также внедрять роботов, искусственный интеллект в процесс труда, что не может не оказывать влияния на трансформацию признаков трудовых отношений. Появляются нетрадиционные формы занятости (дистанционный труд, самозанятость, а также платформенная занятость, проект о регулировании которой уже подготовлен1, и т. д.) (Васильева, Браун, 2014; Регулирование робототехники…, 2018; New forms…, 2016), что заставляет работодателя «забывать» о наличии Трудового кодекса РФ, необходимости оформлять трудовые отношения трудовым договором, а не подменять их договором, который бы отражал желание работодателей снизить затраты на труд.
Обратим внимание на то, что еще в работах Л.С. Таля рассматривались признаки фабричных отношений, выявлялись их особенности, констатировалось наличие несамостоятельного труда (1913). Однако окончательно эти признаки были сформированы в 1948 г. в фундаментальной монографии Н.Г. Александрова «Трудовое правоотношение» (1948), также они нашли дальнейшее развитие в трудах таких представителей науки трудового права, как Л.Я. Гинцбург (1977), В.Н. Скобелкин (1999), А.М. Лушников2, А.В. Кузьменко (2005) и др. В нормах трудового права признаки трудовых отношений отражены в ст. 15 Трудового кодекса РФ.
Конституционный Суд РФ обратил внимание на то, что признание в судебном порядке возникших отношений трудовыми осуществляется в целях недопустимости злоупотребления работодателями трудовыми правами3, а постановление Пленума Верховного Суда РФ 2018 г.4, опираясь на теоретические выводы, расширило список признаков трудовых отношений, детализируя не только их содержание (наличие графика работы, интегрированность работника в организационную структуру работодателя и др.), но и способ отражения в документах (например, наличие оформленных пропусков на территорию организации, журналы регистрации и т. д.).
Думается, что такое обилие признаков трудовых отношений, которое представлено в постановлении Верховного Суда РФ, несколько негативно отражается на судебной практике, которая часто складывается в пользу работников, иногда с нарушением интересов работодателей5. Нам представляется важность защиты прав и интересов не только работников, но и работодателей (ст. 1 Трудового кодекса РФ), в связи с чем в ст. 15 Трудового кодекса РФ отдельной частью следует закрепить основные признаки трудовых отношений, действительно позволяющие четко отграничить их от гражданско-правовых отношений. И здесь в целом согласимся с учеными, которые к числу таких главных признаков отнесли предмет договора (процесс труда) и организационную несамостоятельность одной из сторон этих отношений (Клепалова, Кучина, 2023). Единственное, полагаем, что предмет труда как признак, который желательно закрепить в ст. 15 Трудового кодекса РФ, необходимо сформулировать в виде наличия трудовой функции у потенциального работника. Именно этот признак точнее отражает процесс труда и длящийся характер трудовых отношений, позволяя предполагать у работника наличие определенного уровня знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы, т. е. квалификации. Организационная несамостоятельность одной из сторон этих отношений – это подчинение внутреннему трудовому распорядку, установленному работодателем.
Подводя итог, хотелось бы представить несколько выводов и предложений.
Во-первых, в основе практически всех нарушений, связанных с признанием трудовыми отношений, прикрытых гражданско-правовыми договорами, находится экономический фактор, что доказывается выявленными нами причинами нарушений трудовых прав. В результате заключения многочисленных договоров с самозанятыми для прикрытия возникших трудовых отношений выигрывают и заказчик (он не обеспечивает ни безопасность труда, ни гарантии трудовых прав, не доплачивает налоги, страховые взносы), и исполнитель (не доплачивает налоги). Поэтому бесперспективно надеяться на сознательность гражданина при заключении с ним как с самозанятым договора, который, по сути, должен регулировать возникшие трудовые отношения. В то же время при нарушении прав этот гражданин первый обратится в соответствующие органы государства, требуя восстановления трудовых прав. Нам представляется, что государству необходимо использовать данное поведение потенциальных работников: в случае подачи иска в суд отказывать истцам в признании трудовыми отношений по причине злоупотребления правами с их стороны. Одновременно в ст. 15 Трудового кодекса РФ следует выделить основные признаки трудовых отношений: наличие трудовой функции, подчеркивающей процесс труда, и организационное подчинение работника работодателю.
Во-вторых, важно сформировать связующее звено между цепями событий: включение в реестр работодателей с нелегальной занятостью и правовыми последствиями после такого включения. Работодатели должны понимать, что включение в реестр – это не просто подтверждение нарушений ими трудовых прав работников (и работники, и эти работодатели, конечно, знают об этих нарушениях). Данная мера должна повлечь для работодателя четкие негативные меры экономического и правового характера, что, возможно, будет являться одним из направлений защиты трудовых прав работников. Например, включение в реестр для работодателя должно служить основанием для проведения внеплановой проверки Рострудом.
В-третьих, анализ ч. 1 ст. 19.1 Трудового кодекса РФ позволяет скорректировать редакцию способов признания трудовыми отношений, прикрытых гражданско-правовыми договорами. В частности, важно указать на конкретные гражданско-правовые договоры с элементами труда (их предметом должно быть выполнение работ или оказание услуг) и предложить редакцию способов признания: 1) письменное заявление физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору (инициатива потенциального работника); 2) инициатива заказчика по указанному договору; 3) предписание государственного инспектора труда; 4) решение суда о признании отношений трудовыми.
В-четвертых, в ст. 392 Трудового кодекса РФ важно отразить точку отсчета сроков давности обращения в суд для взыскания недоплаченных сумм после признания трудовыми отношений, в том числе прикрытых гражданско-правовыми договорами, – 1 год со дня признания отношений трудовыми.
В-пятых, судебная практика для работодателей во многом носит негативный характер, поскольку имеется огромное количество случаев удовлетворения судами требований работников. Это значит, что суд своим решением часто подтверждает нарушение трудовых прав работников. С этих позиций вступившее в законную силу решение суда удостоверило наличие выявленных нарушений обязательных требований в сфере труда, что, в свою очередь, должно явиться основанием для применения к работодателю административного наказания без проверки Рострудом фактов нарушений. Поскольку нарушения уже подтверждены вступившим в законную силу решением суда, постольку и работодатель здесь выступает субъектом административной ответственности (ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ). Возможно, такой результат последовательности действий в отношении работодателя, нарушающего трудовые права работников, позволит этому работодателю «повысить» свою добросовестность.