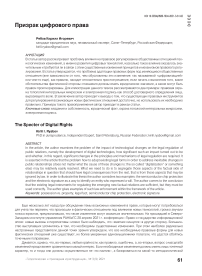Призрак цифрового права
Автор: Рябов К.И.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: ЭССЕ
Статья в выпуске: 3 (9), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье автор рассматривает проблему влияния на правовое регулирование общественных отношений технологических изменений, а именно развития цифровых технологий, насколько такое влияние оказалось значительным и требуются ли в связи с этим существенные изменения принципов и механизмов правового регулирования. В статье утверждается, что проблема адаптации правовых форм под меняющиеся общественные отношения (вне зависимости от того, чем обусловлены эти изменения: так называемой «цифровизацией» или чем-то еще), как правило, находит относительно простое решение, если начать с выяснения того, какие обстоятельства фактической стороны отношения должны иметь юридическое значение, а какие могут быть правом проигнорированы. Для иллюстрации данного тезиса рассматриваются два примера: правовая охрана топологий интегральных микросхем и электронная подпись как способ достоверного определения лица, выразившего волю. В заключение автор приходит к выводу о том, что существующих правовых инструментов для регулирования возникающих новых фактических отношений достаточно, но использовать их необходимо правильно. Примеры такого правоприменения автор приводит в рамках статьи.
Владение и собственность, юридический факт, охрана топологий интегральных микросхем, электронная подпись
Короткий адрес: https://sciup.org/14121125
IDR: 14121125 | DOI: 10.22394/2686-7834-2021-3-61-63
Текст научной статьи Призрак цифрового права
Еще несколько лет назад при обсуждении темы возможных изменений в праве, которые могут потребоваться для учета тех перемен, что произошли в фактических отношениях под влиянием новых технологий, громко звучали голоса юристов, предполагавших, что такие изменения могут оказаться значительными. На прошедшей в СевероЗападном институте управления РАНХиГС 28 апреля 2021 г. конференции «Право и государство информационной эпохи: новые вызовы и перспективы» можно было наблюдать, что «маятник качнулся» в другую сторону. Большинство выступавших усомнились в том, что необходимы существенные изменения. При этом наиболее радикально настроенные представители данной точки зрения утверждали, что все необходимые правовые формы для новых фактических отношений уже существуют, их более умеренные единомышленники полагали, что удастся обойтись точечными поправками.
Думается, однако, что, во-первых, любые крайности, как правило, ошибочны, а, во-вторых, вопрос о масштабе изменений представляет сравнительно малый интерес. Если необходимые изменения должны иметь лишь точечный характер, то и тогда они должны осуществляться не «по наитию», а базироваться на какой-то методологической
ЭССЕ
основе. А вот об этой основе, к сожалению, речи на конференции почти и не шло (если не считать такой основой предложение объявить проблему адаптации права под меняющиеся общественные отношения надуманной).
По-своему интересные и во многом утешительные размышления представителей теории права о том, что фундаментальные, сущностные черты права не будут подвержены «коррозии» в результате так называемой «цифровой трансформации» общественных отношений, тоже трудно признать искомой основой. Ответ на вопрос «что не изменится?» мало говорит о том, «как менять» то, что поменять, возможно, придется. Хотя кое-что, конечно, говорит. Например, не вызывает сомнений, что и новые правоотношения должны возникать из юридических фактов, поскольку не существует других оснований возникновения (изменения, прекращения) правоотношений кроме юридических фактов.
Из всего сказанного на конференции (точнее, услышанного автором данной статьи) наибольший интерес с точки зрения отыскания подходов, которые могут быть использованы при «модернизации» правовой формы меняющихся фактических отношений, вызывает наблюдение, которым поделился В. Ф. Попондопуло. Суть его сводилась к тому, что при обсуждении юристами «цифровой трансформации» общественных отношений, как правило, слишком увлекаются описанием фактической стороны этих отношений в ущерб рассмотрению их юридической стороны.
За восемнадцать веков до В. Ф. Попондопуло нечто созвучное говорил Ульпиан, когда обращал внимание на то, что владение не имеет ничего общего с собственностью1. Позволим себе, «стоя на плечах гигантов», высказаться еще более определенно: давайте перестанем постоянно смешивать фактическое с юридическим, и мы с успехом справимся не только с цифровой, но и со многими другими трансформациями, которые могут претерпеть фактические отношения.
Но прежде чем продемонстрировать, как пользоваться выдвинутым положением при регулировании сравнительно новых фактических отношений, проверим, следуем ли мы этому положению, регулируя давно знакомые отношения. Рассмотрим два примера.
Ст. 66.1 Гражданского кодекса РФ2 (далее — ГК РФ) называет имущество, которое может быть передано учредителями в уставный капитал хозяйственного общества. Данная статья перечисляет, какие обязательственные, интеллектуальные, корпоративные права могут быть таким имуществом, а наравне с ними упоминает и... вещи. Но что с юридической точки зрения означает передача вещи? В общем случае на этот вопрос существует множество ответов. Когда вы отдаете свои ботинки в ремонт, вы тоже передаете вещь, но, очевидно, ст. 66.1 ГК РФ имеет в ввиду что-то другое. Более того, внимательное знакомство с этой статьей наводит на мысль, что из всех прав, которые могут существовать в отношении вещи, в уставный капитал может быть передано только право собственности. И, несмотря на это, с упорством, которое вернее было бы назвать упрямством, вместо термина «право собственности» мы используем термин «вещь».
Посмотрев на создание юридического лица, посмотрим и на его ликвидацию. Согласно ст. 419 ГК РФ обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо. Приводя примеры известных законодательству «случаев», когда обязательство не прекращается ликвидацией юридического лица, обычно вспоминают требование о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (п. 2 ст. 1093 ГК РФ), договор безвозмездного пользования (п. 2 ст. 700 ГК РФ). В то же время не нужно обращаться к статистике, чтобы утверждать, что среди ликвидируемых юридических лиц доля тех, которые обязаны к возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, или тех, которые являются стороной договора ссуды, значительно меньше, чем доля тех, кто имеют безналичные денежные средства на своих банковских счетах. И есть основания полагать, что эти средства к кому-то все-таки переходят при ликвидации юридического лица. Если теперь вспомнить, что с юридической точки зрения безналичные денежные средства считаются обязательственным правом, то можно задаться риторическим вопросом: почему ни законодатель, ни Верховный Суд РФ3, ни большинство комментаторов ст. 419 ГК РФ об этом не вспоминают?
Рассмотренных примеров достаточно, чтобы понять, что упрек В. Ф. Попондопуло можно адресовать всей нашей правовой системе: регулярное смешение фактического с юридическим является ее характерной чертой. Пока речь идет о регулировании отношений по поводу привычных объектов, еще удается с переменным успехом делать вид, что никаких проблем это не создает. Когда же на место вещей и безналичных денежных средств приходит какая-нибудь криптовалюта или того хуже, делать «хорошую мину при плохой игре» становится сложновато.
Теперь рассмотрим два других примера. Это будут примеры норм, относящихся к регулированию отношений, в которых применяются новые технологии. В то же время, как мы увидим, при формулировании этих норм удалось (и довольно успешно) сделать то, чему учат на занятиях по теории права на первом курсе юридического факультета. То есть во всем множестве обстоятельств, составляющих фактическую сторону этих отношений, обнаружить те обстоятельства, которые имеют юридическое значение, и придать им роль юридических фактов. После чего определить, какие правовые последствия эти юридические факты влекут, указав, какие права и обязанности составляют содержание правоотношений, возникающих из этих юридических фактов.
ЭССЕ
Гл. 74 ГК РФ посвящена охране топологий интегральных микросхем. Интегральная микросхема представляет собой несколько слоев, на каждый слой при помощи специальных трафаретов нанесены определенные области. Другими словами, результатом интеллектуальной деятельности, именуемым топологией интегральной микросхемы, является ответ на вопрос, какие области и куда должны быть нанесены для получения определенного функционала. Лица, пытающиеся воспользоваться результатами чужих интеллектуальных усилий, делают следующее. Приобретя интересующую их микросхему, стирают слой за слоем, делают снимки каждого слоя и на основе этих снимков изготавливают необходимые трафареты. Легко видеть, что описанная процедура копирования микросхемы слой за слоем по своей сути повторяет процедуру копирования книги страница за страницей.
Приведенное в предыдущем абзаце описание фактической стороны отношения позволяет составить представление о том, в чем заключаются интересы создателей топологий интегральных микросхем, и о способах посягательства на эти интересы. В результате чего разумно сделать вывод, что содержание гл. 74 ГК РФ, т. е. описание юридической стороны этих отношений, должно быть похоже на содержание гл. 70 ГК РФ «Авторское право». И действительно, ознакомившись с гл. 74 ГК РФ, вы убедитесь, что, несмотря на наличие текстуальных различий, по сути там нет ничего, что выходило бы за рамки авторского права и общих положений гражданского права. Заслуживающее упоминания отличие состоит в том, что в гл. 74 ГК РФ урегулирована ситуация независимого создания одинаковых топологий, а авторское право исходит из того, что независимо созданных одинаковых творческих произведений не бывает.
Вторым примером послужат нормы, посвященные квалифицированной электронной подписи. И как в предыдущем примере мы обошлись без экскурса в сферу физической химии, так и в этом примере мы обойдемся без высшей математики. В основе используемой здесь технологии лежит пара уникальных взаимосвязанных ключей: ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи. О каждом из них можно думать как о последовательности символов (хотя на самом деле это очень большие числа). Используя специальные средства, электронный документ и ключ электронной подписи, можно создать еще одну уникальную последовательность символов — электронную подпись, которую невозможно создать, по крайней мере за приемлемое время, не имея ключа электронной подписи. Получив электронный документ, электронную подпись и ключ проверки электронной подписи, можно, используя специальные средства, проверить, была ли данная подпись получена в результате подписания данного документа ключом электронной подписи, образующим пару с данным ключом проверки электронной подписи, или нет.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. Описанный в предыдущем абзаце математический «фокус» может использоваться в качестве способа достоверно определить лицо, выразившее волю, при выполнении двух условий: а) определенным ключом электронной подписи должен владеть только один субъект, б) любое лицо, получившее определенный ключ проверки электронной подписи, должно иметь возможность достоверно определить владельца соответствующего ему ключа электронной подписи.
В ФЗ «Об электронной подписи»4 нашли отражение все перечисленные обстоятельства: наличие специальных средств, обладающих заданными характеристиками (ст. 12), упомянутый временной аспект (ст. 11), необходимость хранить ключ электронной подписи в тайне (п. 1 ст. 10) и способ борьбы с подменой ключа проверки электронной подписи (п. 2.1 ст. 15). Будучи выполненными, условия, сформулированные в названных статьях, влекут правовое последствие, указанное в п. 1 ст. 6 того же закона: информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Примерно таким образом нужно поступать при регулировании и других отношений, в которых используются новые технологии. И прежде всего не упускать из вида понятие «юридический факт», служащее, как известно, и связующим звеном между фактической и юридической сторонами отношения, и одновременно препятствием для их смешения.
Список литературы Призрак цифрового права
- Покровский И. А. История римского права. § 58. URL: https://civil.consultant.ru/elib/books/25/page_40.html#86 (дата обращения 03.07.2021).