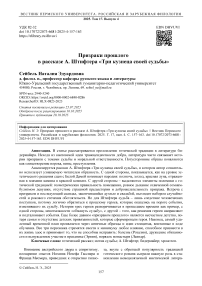Призраки прошлого в рассказе А. Штифтера «Три кузнеца своей судьбы»
Автор: Сейбель Н.Э.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается преломление готической традиции в литературе бидермайера. Исходя из кантовской идеи трансцендентности добра, литература часто связывает истории призраков с темами судьбы и моральной ответственности. Потусторонние образы появляются как олицетворение порока, вины, преступления. Анализируется рассказ А. Штифтера «Три кузнеца своей судьбы», в котором автор сознательно использует узнаваемую читателем образность. С одной стороны, показывается, как на уровне эстетического решения сцен с Белой Дамой возникает пародия: полночь, холод, красная луна, отраженная в пламени камина в красной комнате. С другой стороны – выделяются элементы полемики с готической традицией: геометрическая правильность помещения, ровное дыхание охваченной сомнамбулизмом девушки, отсутствие страшной предыстории и доброжелательность призрака. Встреча с призраком и последующий скандал, закончившийся дуэлью и свадьбой, выглядит набором случайностей и рокового стечения обстоятельств. Но для Штифтера судьба – лишь следствие человеческих поступков, поэтому логично обратиться к прошлому героев, которые оказались на пороге события, изменившего их судьбу. История трех героев разворачивается в прошедшем времени как пример, с одной стороны, невозможности «обмануть судьбу», с другой – того, как решения героев направляют и подталкивают события. Еще более давним «призраком прошлого» является несчастное детство, потеря семьи и отсутствие детских привязанностей, которые сформировали героя. Наконец, самый удаленный временной план проявляется через античные образцы и идеи стоицизма, впитанные в ходе обучения. Все три персонажа стремятся свести к минимуму любое влияние, способное привнести в их жизнь хаос и принимают то, что не способны исправить: болезнь (Розалин), дружеские обязанности и вынужденное участие в празднике (Эрвин), порядок монастыря (Леандр).
Готический рассказ; мотив судьбы; А. Штифтер; бидермайер; хронотоп
Короткий адрес: https://sciup.org/147252799
IDR: 147252799 | УДК: 82-32 | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-4-157-163
Текст научной статьи Призраки прошлого в рассказе А. Штифтера «Три кузнеца своей судьбы»
туры. Обнаружение гальванического электричества и последующие публичные опыты Джованни Альдини, получившего большое признание при дворе императора Франциска I, поставили «на поток» чудо воскрешения и подтолкнули литературу к поиску вдохновения и просветления в «запредельном». Постепенно появление призрака в литературном тексте становится поводом для обсуждения связи времен [Винокуров 1996: 25], преемственности поколений. К 40-м гг. XIX в. мода на готику уже настолько повсеместна, что порождает полемику и пародию. Поскольку в творчестве Адальберта Штифтера наука и просвещение - органические составляющие, а «связь между естественными науками, мистикой и эстетикой, столь же основополагающая, сколь и напряженная» [Dinkel 2025: 84], его обращение к образам потустороннего мира нельзя расценивать как дань моде или желание осмеять вкусы публики и ставшие беллетристическими литературные ходы и приемы. Появление в новелле, написанной во второй половине 1843 г., «леденящего душу» призрака, меняющего судьбу героя, автор использует для обсуждения устойчиво интересующих его проблем: божественного провидения, судьбы и случая, личной ответственности, воспитания юношества и его последствий, сути любви и дружбы, соединяющих людей. Потому рассказ «Три кузнеца своей судьбы» так активно становится объектом исследовательского внимания, что за пародией здесь скрывается целый комплекс вневременных проблем.
Обзор литературы и методология
Во-первых, рассказ, по мнению исследователей, становится отражением штифтеровской концепции судьбы не как «трансцендентной контролирующей инстанции, а только как хода жизни…, на который влияют бесчисленные факторы» [Begemann 2017: 125]. В этом смысле она вписывается в ряд таких программных текстов, как «Авдий», «Бригитта» «Бабье лето» и даже «Витико». Во-вторых, широкое поле для современных исследований - психология героев, долго сдерживавших и подавлявших свою натуру. С этой точки зрения «коварная месть случая ˂…> в конечном счете есть не что иное, как долго подавляемое сексуальное желание, которое пробирается на поверхность через подсознание (через сон)» [Dinkel 2025: 683]. И даже еще определеннее: «Штифтер предвосхищает то, что Фрейд позже разработает в своем эссе 1919 года о “Жутком” как проявление возвращения подавленного <…> аффективный контроль <в новелле> превращается в сексуальную тревогу, гинофобию и женоненавистничество» [Begemann 2017: 126]. В-третьих, «Три кузнеца своей судь- бы» вписывается в традицию педагогических «штудий» Штифтера, представляющих плюсы и минусы различных систем воспитания юношества. Во многих рассказах об учениках и наставниках повторяется образная система, строящаяся на паре «опекун и воспитанник» (Ризах - Густав - Генрих; Полковник - Августин - Готлиб; Стефан Мураи -рассказчик - Густав), устойчиво появляются «замещающие родительские фигуры» [Dallinger 2018: 158], часто призванные не столько обучать, сколько обеспечивать, «чтобы все и всегда происходило “надлежащим образом”, приносит ли “ненадлежащее” вред или нет - это уже не имело значения» [Штифтер 1971: 362].
Интерес данного исследования составляет игра Штифтера с хронотопом. В применении к штифтеровским текстам рассмотрение вопросов времени и пространства особенно продуктивно, поскольку в них «в описание природы непосредственно вплетаются человеческие чувства…, так что становится невозможным распознать, имеем ли мы дело с ландшафтом, отраженным в душе или наоборот…» [Райнмюллер 2003: 101]. Важно показать, как автор, с одной стороны, совмещает несколько пластов узнаваемых готических и романтических пространств и времен, с другой -создает их новую модификацию. Исследование хронотопа позволяет в случае «Трех кузнецов своей судьбы» выйти на проблемы исторических воззрений автора, его представлений о путях взросления человека и т. д.
Событие рассказывания.«Синхронический» хронотоп
В исследуемом тексте встреча с призраком и последующий скандал, закончившийся дуэлью и свадьбой, выглядит набором случайностей и рокового стечения обстоятельств. Но Штифтер уходит от апологии судьбы и представляет рассказанный сюжет объектом различных толкований уже на уровне композиции.
«Рама» рассказа заведомо иронична и юмористична. Во-первых, пародийность очевидна уже на уровне эстетических приемов создания «страшного»: эксплуатируются готические штампы (полночь, холод, красная комната, красная луна, красное пламя в камине), символика цвета выражена активнее, чем в любом другом тексте Штифтера, у которого «красный цвет …в открытом, не приглушенном указанием на спокойный оттенок, варианте встречается крайне редко и всегда сопутствует проявлениям анти-гармоничным» [Сейбель 2005: 39]. Во-вторых, история героев - часть полемики, разворачивающейся на праздничном вечере «в компании веселящихся людей» (in einer Gesellschaft lustiger Manner [Stifter 2025])1. Спор идет о старом и но- вом - о подлинности древних текстов и возможности «нововведений» в них. Лингвистические упражнения по поводу слов «Рок» и «Судьба» перерастают в философские. Исторический диспут упирается в вопросы «психологии, логики и метафизики» (die Psychologie, die Logik und Metaphysik). В работах по поэтике Штифтера «тенденция к сценической перспективе» [Bertraim 1907: 46] выделяется как важная часть завязки его рассказов, часто начинающихся как аргументы в полемике, фрагмент дневника и т. д. В данном случае «какой-то плут» (ein Schalk) своим рассказом прерывает спор, грозящий стать бесконечным (war auf dem Wege, ins Endlose zu geraten). Историю Эрвина и Леандра излагает мошенник, о котором идет дурная слава («о его жизни рассказывают довольно авантюрные вещи» - da man sich aus seinem fruheren Leben noch ganz <...> abenteuerliche Sachen erzahlt). Его поведение в ходе монолога оценивается слушателями как произвол и обман (Willkür und Täuschung) именно потому, что ни один из спорщиков не может извлечь из истории аргумента за или против руководящей роли судьбы в человеческой жизни. Автор заведомо сигнализирует читателю, что однозначный выбор между провидением и волей невозможен. Понимание истины требует взвешенности (поэтому спор прерывается до завершения отложенного рассказа), гармонии и равновесия, лежит в плоскости разумного принятия того и другого, ответственного подхода к событиям и их следствиям.
Читатель оказывается в очень важной для Штифтера ситуации «пост-»: рассказ о встрече с призраком завершен через сутки после праздника. «Постпраздничный» хронотоп - это хронотоп успокоения, утешения, осмысления: если «мирское, обыденное время перебивается моментами сакрального, праздничного времени» [Гуревич 1972: 92], то возвращение к разумному, рациональному, повседневному - важнейший в рамках идеализированной Штифтером «модели исполнения долга и достоинств разума» шаг [Steinwendtner 2022: 10]. В «Старой печати» герои не пытаются пролить свет на окружающие их тайны, пока праздник их любви не разрушает война. В «Бригитте» ослепление первой любви ложно, а восстановлению семьи предшествует череда бурных событий. В «Бабьем лете» счастье наступает после треволнений юности и забот зрелости, с ним «в повествование входят другие времена и просторы» [Павлова 2005: 55].
Хронотоп «пост-» с его успокоением обеспечивает трезвый взгляд на мир. Разум помогает увидеть повторения, схождения, профетические указания. Так, вступление «рифмуется» в тексте «Трех кузнецов своей судьбы» с центральной сценой - спором о существовании призраков, предшествующей скандалу. Подогретое свадебными хлопотами волнение провоцирует гостей на сальные шутки, неуместное любопытство, ехидные замечания. Этот спор тоже должен был остаться теоретическим (“sie muBte aus dem Grunde hohl und unfruchtbar”), если бы не вмешательство постороннего лица. В обоих случаях «открывшаяся истина» не решает спора, не становится аргументом той или другой стороны, возникает «третий» путь решения обсуждаемых вопросов. Удвоение в системе образов: Эрвин -Розали. Оба - воплощенная строгость, нежелание любви, недоверие людям, оба - убежденные «кузнецы своего счастья». Еще одно важное удвоение связано с именами главных героев. Читатель изначально знает, что они вымышлены (“Mein Vormann hat sie Erwin und Leander genannt”), а значит мифологическая отсылка (Леандр и Геро) особенно важна. Мотивы одержимости любовью, ночного пути, преодоления препятствий и запретов, волшебного сна и смертельной опасности, ложного пути аскезы, ведущей к трагедии, уже намечены в античном первоисточнике, а также текстах непосредственных предшественников Штифтера на пути осмысления этого сюжета: Шиллера («Геро и Леандр», 1801) и Фр. Грильпарцера («Волны моря и любви», 1831). Блуждающая во сне Розали окажется двойником мифологического Леандра, а взявший на себя ответственность за ее репутацию Эрвин - Геро.
Вступление рассказа выполняет, таким образом, несколько важных функций. Во-первых, создает узнаваемую для читателя романтической литературы атмосферу близости автора и рассказчика, позволяющую давать оценку герою, сюжету и повествователю, устанавливать через посредство автора прямые связи между читателем и «моим дорогим Шлемилем» [Шамиссо 1955: 12], «моим бедным другом ˂…> злополучным Натаниэлем» [Гофман 1962: 241] и др. Во-вторых, указывает на степень достоверности истории через лукавое извинение автора перед ее возможными участниками. В-третьих, «размыкает» границы рассказа за счет литературных, исторических и культурологических параллелей. В-четвертых, дает хронологическую «точку отсчета»: настоящее как ориентир для оценки прошлого. При этом, поскольку у читателя нет ответа на вопрос, где именно рассказчик прерывал свою историю, внимание привлекается к трем важным сценам: ночному визиту Розали (в связи с чем в рассказе возникает романтически-любовный акцент), позору девушки, публично обвиненной в тайной встрече с Эрвином (сцена, где гордость и милосердие Эрвина вступают в спор), и дуэли (где важнее вопросы ответственности и кары).
«Постпраздник» рассказанной вставной истории заканчивается, в результате, примирением позиций: «Они позволяют случаю одержать верх, но не позволяют ему управлять ими» (sie lassen den Zufall gelten, aber sich nicht von ihm beherrschen). Заблуждения юности преодолены. История прошлого – урок для настоящего.
Детство vs взрослость
Второй временной пласт рассказа связан с воспитанием Эрвина и Леандра. Трактующий бытие как «цепь причин и следствий», где «нет беды, а есть вина», Штифтер [Штифтер 1971: 137] ищет истоки человеческих заблуждений в ранних порах детства. Категории Судьбы, Провидения, Удела отражают представление о справедливости бытия. Возможно, Счастье и Несчастье – это «прошедшее человека; но все же это не двойник, в котором повторяется настоящее», – пишет А. А. Потебня [Потебня 1989: 482]. У Штифтера причина и следствие достаточно далеко отстоят друг от друга во времени. Поэтому вторым «призраком прошлого» становятся в рассказе детские годы его героев.
Мир детства мальчиков – это тоже мир «пост-»: хронотоп разрушенной гармонии. Леандру остался «теперь осиротевший дом» (nun verwaiseten Hause), Эрвину «руины [замка барона] ˂…> в далеких лесистых горах» (Raubritterruinen in den fernen Waldbergen ware). Изолированный мир «с черными стенами» (auf dem mauerschwarzen), мутной водой окруженной мрачными соснами реки (wo der Fluß zwischen düstern Föhren stagnierte), сном на «голой соломе» (auf bloßem Stroh) порабощает героев, подчиняет себе их умы, вырывает из времени. «У Эрвина и Линдра отсутствует какая-либо само-рефлексия – что совершенно буквально очевидно из того факта, что “у них дома не было зеркала”» [Begemann 2017: 126]. Они счастливы своим незнанием: незнанием любви, незнанием заботы. Вся история их воспитания строится на противопоставлении «мужского» мира и «женского». Типичная для Штифтера техника архитектурно выверенного повествования, построенного по математическим законам повторяемости, симметрии, золотого сечения, проявляется в описании детства особенно наглядно. Здесь устойчиво повторяются характеристики по одним и тем же основаниям. Фрагмент начинается и заканчивается акцентом на «взгляд»: «лишенный любви взгляд мальчиков-сирот» (der liebeleere Blick von Waisenknaben) отражает мужской мир колледжа и опекунов и противопоставлен «счастливым глазам ребенка», которые «должны ˂…> отражать любовь, полученную от матери» (…Augen eines Kindes, ... die empfangene Mutterliebe). Дру- гое основание для противопоставления – металлы: «железная воля» и «железная независимость» (eiserne Unabhängigkeit) мальчиков – антитеза «свинцу в конечностях» (gossen ihnen Blei in die Glieder) при встречах с девушками. Еще один акцент создает анималистика: герои наделены тигриной ловкостью, статью и силой (видимой, правда, только им самим), в то время как «дамы и девушки» в их глазах обладают «чарами гремучих змей» (Zauber dieser Klapperschlangen).
Фрагмент не случайно настолько обширен. «Странная техника затягивания ˂…> сюжета, ˂…> не умаляемая тем, что к концу действие часто внезапно переходит в почти драматическую скоротечность» [Bertraim S. 47] в данном случае дает читателю составить представление, какой важности «порог» преодолевает герой, участвуя в дуэли из-за девичей чести Розалин. Рушится его ограниченный, односторонний «мужской» мир. Сформированное детскими впечатлениями инфантильное мировоззрение распадается. Дуэль – последний «всплеск» мальчишества, что подчеркивает Штифтер: «…как мальчик, который не может…» (wie ein Knabe, der ihn nicht ... kann), «…в незрелые сердца, такие как у Эрвина…» (in naturrohe Herzen, wie Erwins), «…жалели человека, который был так смущен…» (bedauerten den Menschen, der sich so bloß gebe).
«Призрак» Белой Дамы заставил Эрвина реализовать давно назревшую потребность в переменах, окончательно перейти из прошлого (болезненного детства) в настоящее (взрослость). Если до встречи с Розалин Эрвин реализовывал свою жажду обновления через намерение поменять место жизни (намеревался уехать в Техас, чтобы произвести там «революцию»), то случившийся «прорыв эмоций» разрушает константы времени.
«Дикость» vs цивилизация
Наконец, третий пласт прошлого в рассказе – культурно-исторический.
Эрвин и Леандр воспитаны на «старой классике», древних языках, «законах спартанцев, поклонении стоикам». Они «бросали вызов силе нового века» (Sie trotzten ˂…> der Macht des neuen Jahrhunderts). Итог такого воспитания – абсолютная непреклонность, порядок, строгость как в собственной жизни, так и в отношении имения, работников и т. д.: «Два года без злости и два года без жалости ˂…> это было выше человеческого понимания!» (Zwei Jahre nicht zornig und zwei Jahre unerbittlich ˂…> es ging über menschliche Begriffe!). Пятилетний труд в имении Эрвина показывает результативность такой абсолютизации порядка. В ней нет развития, но есть опора. Герой компенсирует ограниченность своей жизни великой мечтой о новых колониях в Америке и справляется с пороками современности - «все слуги и бездельники, все паразиты и друзья дома, все чиновники, большие и малые…» (Alle Diener und Müßiggänger, alle Schmarotzer und Freunde des Hauses, alle Beamte, große und kleine) изгнаны из родового поместья.
Гордыня «кузнеца своего счастья» Эрвина в его «почти презрении» (Europa, das er fast verachtete) к современной цивилизации. Он стремится повернуть время вспять, осознает намеченное путешествие как историческую миссию, как возможность вырваться из «постметафизического времени» [Neumann 2000: 165]: «Веселое “бидермейеровское” странствие переосмысливается Штифтером в философском, онтологическом аспекте, нередко приобретая трагический оттенок» [Лошакова 2014: 122]. Герой стремится возродить древность, будучи уверенным, что человечество нуждается в исправлении, что современный мир зашел в тупик безнравственности. Адаптация к законам повседневности в его глазах «наипостыдна» (auf das Schmählichste), даже мнимая измена идеалам стоицизма вызывает «боль и раздражение» (dieser Schmerz und dieser VerdruB). В его представлении Америка - «чистый лист», полигон для созидания, она, в глазах героя, прекрасна своей дикостью (an der Grenze der Wilden), изначальным природным величием земли (großen aufrecht stehenden Natur). Он кажется себе вершителем судеб, готовится управлять не только своей, но и чужими жизнями, даже способствовать переустройству мироздания, ибо «создаст государство <...> которое когда-нибудь станет первым в мире…» (etwa einen Staat ..., der dereinst seiner geographischen Lage nach der erste der Welt werden würde).
Утопический проект Эрвина - не что иное, как попытка воскрешения античности во всей полноте и неизменности. Идея героя находится в сложном диалоге с исторической концепцией автора. Герои Штифтера неоднократно говорили о том, что живут в эпоху межвременья, «истина добра и красоты в человеческих взаимоотношениях должна выйти наружу из-под всех наслоений и искажений, в которых повинны общество и сам человек» [Михайлов 1991: 397]. В романе «Бабье лето» господин Дрендорф противопоставляет созидающую Древность и современность, способную лишь к «подражанию», а барон Ризах выражает уверенность, что человечество вновь вернется к созиданию. При этом оба отрицают подражание как путь созидания. Важнейшей идеей автора является неповторяемость прошлого, невозможность создать великое лишь из обломков античности и готики, какой бы ценностью ни обладали их творения. Поэтому жела- ние Эрвина построить «государство спартанской бронзы, афинской красоты и римской доблести» (einen Staat von spartanischem Erze, athenischer Schönheit und römischer Tüchtigkeit erzeugen) обречено.
Неподвижность представлений, крайняя консервативность взглядов обрекают Эрвина на осознание собственной слабости, готовят к будущему эмоциональному взрыву, переворачивающему его жизнь.
Выводы
Рассказ А. Штифтера «Три кузнеца своей судьбы» становится историей преодоления. Прошлое не только формирует, но и ограничивает героев. Штифтер последовательно помещает действие в ситуацию «пост-» времени, «между-» временем: современность - переход великого прошлого к будущему; герои застигнуты в переходный момент между заблуждениями юности и выбором зрелости; слушатели рассказа помещены в ситуацию перехода от праздничного возбуждения к трезвым будням. Если бидермайер «оставляет место для необычного, странного и загадочного» [Бент 1987], то у Штифтера необычность, судьбоносные совпадения, роковые случайности - следствие внутренней динамики эпохи, непосредственно влияющей на психологию героев. Отсюда значимость вопросов времени в художественных текстах автора, принципиальное значение их пространственно-временной организации для понимания глубинных смыслов произведений.
Примечание
-
1 Здесь и далее цитируется без указания страниц по электронному ресурсу [Stifter 2025], перевод наш.