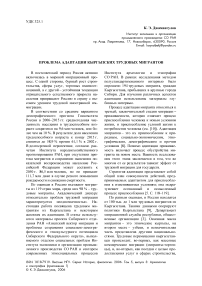Проблема адаптации кыргызских трудовых мигрантов
Автор: Джамангулов К.Э.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Современные этносоциальные процессы в сибири
Статья в выпуске: 3-1 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736776
IDR: 14736776 | УДК: 325.1
Текст статьи Проблема адаптации кыргызских трудовых мигрантов
В постсоветский период Россия активно включилась в мировой миграционный процесс. С одной стороны, бурный рост строительства, сферы услуг, торговых взаимоотношений, а с другой – устойчивая тенденция отрицательного естественного прироста населения превращают Россию в страну с высоким уровнем трудовой иностранной иммиграции.
В соответствии со средним вариантом демографического прогноза Госкомстата России в 2006–2015 гг. среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте сократится на 9,6 млн человек, или более чем на 10 %. В результате доля населения трудоспособного возраста к концу 2015 г. снизится до 58,9 % против 61,1 % в 2002 г. В долгосрочной перспективе, согласно расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, при отсутствии притока мигрантов и сохранении нынешних показателей воспроизводства население Российской Федерации может составить к 2050 г. 86,5 млн человек, но не превысит 111,7 млн даже в случае резкого повышения рождаемости и снижения смертности.
По оценкам в Россию въезжают мигранты из 119 стран мира, среди них 98 % – трудовые мигранты. Академический дискурс относительно проблем трудовой миграции характеризуется неоднозначностью. Настоящая работа посвящена трудовым мигрантам из Кыргызстана и некоторым аспектам их адаптации. В статье используются материалы проекта Сибирского отделения РАН «Азиатский вектор миграции и проблемы сохранения социально-демографического и этнокультурного потенциала Сибирского Федерального округа», выполняемого отделом социальных проблем Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и сектором современных этносоциальных процессов
Института археологии и этнографии СО РАН. В рамках исследования методом полустандартизованного интервью было опрошено 194 трудовых мигранта, граждан Кыргызстана, прибывших в крупные города Сибири. Для изучения различных аспектов адаптации использованы материалы глубинных интервью.
Процесс адаптации мигранта относиться к третьей, заключительной стадии миграции – приживаемости, которая означает процесс приспособления человека к новым условиям жизни, и приспособление условий жизни к потребностям человека (см. [10]). Адаптация мигрантов – это их приспособление к природным, социально-экономическим, этнографическим, демографическим и прочим условиям [8]. Помимо адаптации приживаемость включает процесс обустройства мигранта на новом месте. Важность исследования этого этапа заключается в том, что во многом от ее результатов зависит эффект от трудовой миграции для государств.
Стратегия адаптации представляет собой общий план совокупности действий, предпринимаемых адаптантом для приспособления к изменившимся условиям; она подразумевает осознанный и осмысленный процесс приспособления [5. С. 118–119].
По разным оценкам, в России находятся от 100 тыс. до 1 млн трудовых мигрантов из Кыргызстана. Такими данными оперируют политики Кыргызстана [9], Департамент миграционной службы республики, общественные организации [3]. Основная масса мигрантов – это этнические кыргызы, на втором месте – узбеки, и незначительная часть представлена другими национальностями. Трудовые перемещения кыргызстан-цев происходят, во-первых, как массовые коммерческие миграции (мигранты-торговцы), и, во-вторых, как поездки с целью предоставления услуг в сферах строительства,
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 3: Археология и этнография (приложение 1) © К. Э. Джамангулов, 2006
сельского хозяйства и других отраслях. В количественном соотношении приблизительно 3/4 мигрантов – это торговцы, работающие в регионах России [4. С. 18].
К моменту опроса более трех лет находились в России 15,5 % опрошенных, свыше пяти лет – 10,9 % мигрантов. Согласно информации Новосибирского консульства Кыргызской Республики, из 237 зарегистрированных мигрантов, указавших свой возраст, большинству было 29 лет.
Как выяснилось, среди кыргызских трудовых мигрантов превалируют молодые мигранты с семьями и без и отсутствует старшее поколение. Из всей совокупности опрошенных 40,2 % мигрантов к моменту опроса не достигли 30 лет. Среди них наибольшая группа – старшая молодежь в возрасте от 25 до 29 лет – 50 %; 35,9 % мигрантов от 20 до 24, и 14,1 % до 20 лет. Следующая многочисленная возрастная группа – респонденты от 30 до 39 лет, которые составляют 39,7 % опрошенных. После 40 лет число респондентов идет на убыль (20,1 %).
Большая часть трудовых мигрантов кыр-гызов – выходцы из сел. В традиционной кыргызской семье передача норм и правил подобающего поведения от старшего поколения к молодому занимает особое место процесса социализации. Примеры могут удивить непосвященного человека. Считается, что нельзя стелить ребенку мягкую подушку, так как он станет черствым к родителям. Нельзя ребенку, когда он сидит, упираться руками обо что-то – так сидят сироты, которым не на что и некуда облокотиться. После мытья рук нельзя встряхивать руки, потеряешь свое счастье. Нельзя утром плохо говорить; после принятия пищи раньше старших протирать салфеткой руки; раньше старших садиться за стол; переходить старшему дорогу и т. д. Не будет ошибкой сказать, что кыргызы воспитывают детей и молодежь запретами. Система запретов проводится в жизнь старшим поколением и не теряет актуальность даже в городской среде. Старшее поколение обеспечивает преемственность норм, регулирует поведение, принимает санкции.
Отсутствие постоянных контактов со старшими и плотное инокультурное окружение приводят к изменению традиционных поведенческих стандартов. Уровень ответственности за поведение мигрантов – преимущественно молодых людей – плохо контролируется извне; степень эгоизма повышается, срабатывает идеология «кому какое дело до меня», «кто может донести мое поведение до моего села, до моих родственников». Следует учесть, что жизнедеятельность индивида в селе с самого младенчества вплетена в структуру межпоколенных взаимоотношения и подразумевает опосредованный контроль старших, женщин, и сверстников. Подобный жесткий социальный контроль слабеет либо отсутствует в большом российском городе. Мигрантское сообщество на новой территории – это новый коллектив, характеризующийся, образно выражаясь, «отсутствием корней».
Прибывшие в Сибирь мигранты занимают пограничное положение между культурой «местного» общества и общества выхода, тем самым становятся обладателями маргинального сознания. А из-за того, что торговля как вид деятельности традиционно не являлась престижной для кыргызов, она сопряжена с ощущением стресса. При этом молодые мигранты находятся в ситуации материальной независимости, поскольку сами зарабатывают средства. Попадая из сельской глубинки Кыргызстана в крупные города Сибири, они только-только приспосабливаются к культуре денег и потребления; и это приспособление происходит не без издержек.
Вследствие перечисленных обстоятельств, среди мигрантов наблюдаются различные виды девиантного и делинквентного поведения, например чрезмерное употребление спиртных напитков. По свидетельству довольно успешного мигранта-торговца, в середине 1990-х гг. торговля шла лучше, не было жесткого преследования милиции, и, как следствие, кыргызы были «доброжелательнее». Поэтому особенно в зимнее время, по его словам: «не было и дня, чтобы я трезвый приходил домой. Когда даже считался трезвым, в животе было сто грамм. А как так получалось? Как только на рынке 2–3 человека объединялись (другие торговцы из кыргызов – К. Д. ), кто-то угостит, потом другой благодарит и дальше больше… А теперь что случилось? Теперь торговли нет, дела не идут. Никому нет дела до друг друга. Но молодежь заметнее пьет» (Интервью № 17) (курсив здесь и далее наш. – К. Д. )
Другая актуальная проблема – кыргызская молодежь активно включается в игровой бизнес. По свидетельству трудовых мигрантов Омска, Новосибирска, Томска, известны случаи, когда молодые кыргызские парни проигрывают у автоматов до сотни тысяч рублей, влезают в долги (Интервью № 10). Автоматы на рынках стоят повсеместно, словно это было предугадано администрацией.
Среди мигрантов встречается мошенничество. Так, 25-летний парень из Ошской области Кыргызстана в одном из крупных городов Сибири путем обмана одиннадцати соотечественников завладел суммой, которая составила 784 тыс. руб., и пустился в бега. Сейчас он объявлен в розыск [6. С. 29]. Такие случаи не единичны: «А что скрывать, среди кыргызов много ловкачей, готовых вырвать чужое счастье. Увеличилось число молодых парней и девушек аферистов, вроде умом и здоровьем не обделены. Вот парень… он из… обещая привезти справку, обманул на 350 рублей» (Интервью № 18 ).
Другое нелицеприятное явление – кыргызские девушки, забеременев, оставляют новорожденных детей. Горно-Алтайские правоохранительные органы судили жительницу Кыргызстана, торговавшую на рынке, за то, что она оставила на улице новорожденного ребенка (Интервью № 5). Подобные случаи, по данным СМИ, известны и в других городах Сибири, где граждане Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Азербайджана оставляют собственных детей. Так, по словам начальника управления опеки и попечительства Сургута – Людмилы Сопиной, «логика беременных женщин, находящихся здесь на нелегальном положении, проста – богатый город всех приютит и прокормит. Бывают и другие случаи – детей специально привозят в Сургут, чтобы сдать в детский дом» [7].
На фоне социального неблагополучия происходит криминализация миграционных сообществ. На рынках Новосибирска процветают различные виды рэкета. Группировки, состоящие из кыргызских парней, вымогают деньги у торговцев-соотечественников; иногда торговцы платят сами. Об этом говорили опрошенные мигранты, выяснялось это и при интервью. «Хуже тот враг, что вышел их своих, как хуже то пламя, что разгорелось из стержня» – гласит кыргызская пословица.
На конференции Ассоциации кыргызских диаспор России и Казахстана, которая проходила 10–12 сентября 2004 г. в Казани, председатель общественной организации «Кыргызстан» республики Хакасия сооб- щил, что кыргызов, приезжающих за товаром на оптовый рынок Новосибирска из Абакана, рэкетируют их соплеменники, при отказе – избивают. Подобные замечания были высказаны лидерами кыргызов Красноярска и Якутии.
Отсутствие социального контроля, нарушение связей со старшим поколением имеет и другие последствия, в том числе в характере воспитания мигрантами своих детей. Режим работы мигрантов выглядит следующим образом: почти 60 % респондентов из всей совокупности опрошенных трудятся круглый год; только в сезон – 29,7 % опрошенных, в челночном режиме – 7,8 %; период работы остальных мигрантов (2,6 %) не определенный. Из всех мигрантов 49,1 % работают 8–9 часов, 50,3 % – свыше этого времени; 58,8 % респондентов отметили, что отдыхают один–два дня; 24,7 % опрошенных не имеют отдыха вообще, 15,3 % – отдыхают, но редко.
Как видим, режим работы трудовых мигрантов отличается большой напряженностью. Это отражается на всех сферах жизни, в том числе на воспитании детей. Дети мигрантов остаются дома, незначительная часть помогает по работе. Детям уделяется мало времени; их социализация проходит в стенах квартир, в рамках дворов. Не многие семьи мигрантов могут позволить себе услуги детского сада или школы из-за своего нелегального положения. В процессе воспитания молодым родителям не к кому обратиться, кроме таких же неопытных, как они сами, других мигрантов.
Показателен пример семьи трудовых мигрантов из Кыргызстана, которая уже продолжительное время живет в Новосибирске: муж работает мясником, жена – продавщицей в супермаркете; в семье две девочки, они два года не ходят в школу, а должны учиться во втором и третьем классах. По словам родителей, причина, по которой школа не принимает их, – отсутствие справок, что связано с регистрацией. Однако нужно отметить, что школы вокруг рынков, как отмечают мигранты, часто принимают детей и без регистрации. Помимо регистрации, другая причина непосещения детьми школы – недостаток средств, необходимых для оплаты услуг дошкольных учреждений.
Встает вопрос, какие выходы существуют для мигрантов? Один из них связан с формированием корпоративно-патерналистских отношений. В городах Сибири форми- руется круг лиц из числа мигрантов, которые пользуются определенным авторитетом. Это люди старшего возраста, обычно успешно адаптированные как в социальном, так и в экономическом плане. Вот что говорит один из таких мигрантов: «…многие из моего круга торгуют. Общаемся как друзья, они уважают как старшего и стараются вести себя подобающе. Я и критику в лицо им говорю, и все как есть говорю. Например, здесь нет наших родителей, стариков. Нет того, кто бы замещал мать или отца, все мы молодые. Если мы замкнемся только на торговле, мы ничего и не узнаем. Поэтому, и в радость, и в горе я организовываю. Даю советы, – “ребята здесь надо так, а это делается вот так”. Вместо стариков здесь должен давать напутствия кто-то постарше. Если таких нет, значит, я обязуюсь воспитывать. А то приедут на родину, и ничего не будут знать. Это мой долг даже перед Богом. Поэтому я говорю: пусть из 10 даже 1 встанет на хороший путь – для меня это хороший результат …и моему сыну кто-то должен говорить. Если этого не будет, то через поколение мы начнем портиться. Если пьющему не сказать “не пей”, то кто это скажет? Я буду молчать, он будет молчать, ты будешь молчать, беспокоясь, что это ему не понравится, то кто скажет? Вот, поэтому я все это взвесил и решил, что нужно давать напутствия. Нравится это, или нет, все-таки мне нужно так говорить» (Интервью № 1).
«Я не должен терять свою национальность. И не только национальность, но и свой род. Сейчас, в тяжелое время любой человек думает только о себе. Я здесь (имеет в виду рынок. – К. Д. ) нескольких повез на горные лыжи, именно с семьями. Чтобы они видели это. Я же ведь могу на своей машине поехать только со своей семьей. Но я и их возил, бесплатно. Я им хочу доказать, – эй смотрите – что такое жизнь! А на такси если поедут, только доехать 400 рублей возьмут. И обратно 400 рублей… » (Интервью № 1).
Есть и другие способы решения проблемы. Мигрантами практикуется отправка детей на летние каникулы в Кыргызстан, в села к родителям и родственникам. Их быт характеризуется традиционной, более гетерогенной обстановкой. За время летних каникул дети приобретают навыки кыргызской речи, видят сельскую жизнь, помогают по хозяйству, играют с другими детьми. Ко- нечно отправляют детей те, кто могут это себе позволить по затратам и времени. Тяжело мигрантам из южных областей Кыргызстана, поскольку добираться туда дольше по времени и дороже по финансовым возможностям.
Специфическое положение у мигрантов-старожилов, которые давно прижились в городах России, являются ее гражданами, занимаются высококвалифицированным трудом. Их дети отрезаны не только от влияния старшего поколения, но и в целом от этнического (кыргызского) окружения. Контакты с исторической родиной у них очень редки. Интервью с несколькими старожилами показали, что сами они питают надежду вернуться на старости лет на историческую родину, но сомневаются по поводу своих детей: «…самое страшное, чего я боюсь в жизни, это то, что моя дочь никогда не вернется в Киргизию… С дочкой разговариваю на алтайском и на русском. Это тоже угнетает меня, что моя дочь не знает киргизского языка. …Испытываю недостаток информации на своем родном языке. Практически нет ни газет, ни журналов. Сколько времени прошло, все равно скучаю по родине. Иногда бывают ощущения, что медленно превращаюсь в “манкурта”» 1 * (Интервью № 15).
«Что нашли, что потеряли, находясь вдали от родины? Нашел – знание, семью, детей. То, что потерял – моя жизнь, которая должна была пройти на своей земле, прошла вдали. А есть ли опасения, что дети кыргызов забудут язык, религию? Опасения есть. Многие уже забыли. Поэтому мы собираемся открыть воскресную школу » (Интервью № 19).
С целью частичного решения подобной проблемы кыргызские культурно-национальные центры Красноярска, Москвы, Ростова-на-Дону, Казани организовали воскресные школы с преподаванием истории Кыргызстана, кыргызского языка и литературы. Учителей набирают из тех же мигрантов-торговцев [2. С. 26].
Интересно, что в данном проблемном поле сосуществует и иная ситуация, когда кыргызские мигранты-торговцы стремятся отойти от традиций: «Есть тут некоторые (имеет в виду мигранта-торговца . – К. Д. ) , дожили до того, что 12-летняя дочка день рождение справляет в дорогом кафе. Там только вход стоит 100 рублей, мы, взрос-
1 «Манкурт» – человек, который потерял память.
лые, даже не можем себе позволить дорогое кафе» (Интервью № 5).
В других случаях речь идет об умеренном синтезе традиционно «кыргызского» воспитания и более современного: «Кыргы-зы деньги экономят на многом. А я наоборот, или из-за того, что русских друзей много, или характер такой. Зимой на школьные каникулы дочку за 10 тыс. отправил в Санкт-Петербург. Пусть посмотрит... Сейчас дочка на Алтае, с путевкой отправил на три дня. В прошлом году съездила в Томск. …Во-первых, кругозор будет расширяться. Во-вторых, если я буду воспитывать традиционно по-кыргызски, или там по-мусульманскому, мы, конечно, останемся мусульманами, я думаю дочка не будет такой, понимаешь… наша жизнь ради детей, именно поэтому здесь я работаю. Так-то и в Бишкеке можно было бы работать, если для себя. Для себя можно везде прожить. Хочу, чтобы дочка закончила здесь (в Новосибирске. – К. Д. ) институт» (Интервью № 1). То, что для одних мигрантов кажется нормой, для других вызывает непонимание.
В ситуации растущей миграции происходит постоянное обновление сообщества мигрантов; их социальные установки находятся в процессе становления и определяются сложным переплетением городских и патриархальных стандартов. Продолжительное пребывание молодых мигрантов – по большей части выходцев из сел – в городской среде оказывает различное влияние на их образ жизни, социальные практики. Административно-правовые проблемы, отсутствие старшего поколения, изменения гендерных ролей – все это приводит к существенным изменениям их социальных установок и ценностных ориентаций.
Подобные трансформации прежде всего касаются мигрантов-торговцев. Рынок представляет собой закрытое пространство, где протекает жизнь мигранта. Опыт детей мигрантов, подрастающих в условиях нетрадиционной среды, в корне отличается от опыта их родителей. В то же время социальная маргинальность (отсутствие возможности посещать детские сады, школы, образовательные учреждения), вызванная внелегальным положением родителей, может создать у «нового» поколения образ мыслей, идей, взглядов, не соответствующих нормам принимающего сообщества. Напротив, открытость к новым ценностям наблюдается у тех групп мигрантов, которые включаются в социальные структуры принимающего сообщества. Именно это создает предпосылки для моральной ответственности за свои поступки и поведение. Этому способствуют, среди прочих факторов, легальное положение мигрантов, их экономический успех и гетерогенность социокультурного окружения.
Материал поступил в редколлегию 30.09.2006