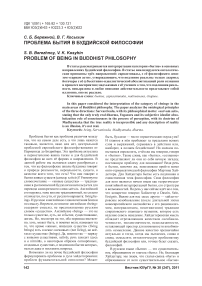Проблема бытия в буддийской философии
Автор: Бережной Сергей Борисович, Косыхин Виталий Георгиевич
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 30 (247), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются интерпретации категории «бытие» в основных направлениях буддийской философии. В статье анализируются онтологические принципы трёх направлений: сарвастивады, с её философским девизом «сарвам асти», утверждающим, что подлинно реальны только дхармы; йогачары с её субъективно-идеалистической абсолютизацией роли сознания в процессе восприятия; мадхьямаки с её учением о том, что подлинная реальность невыразима и любое описание действительности представляет собой иллюзию, оно не реально.
Бытие, сареастиеада, мадхъямака, дхармы
Короткий адрес: https://sciup.org/147150699
IDR: 147150699 | УДК: 1(091)+
Текст научной статьи Проблема бытия в буддийской философии
Проблема бытия как проблема различия между тем, что на самом деле есть, а что лишь кажется таковым, является, явно или нет, центральной проблемой европейского философствования от Парменида до Бодрийяра. Эта проблема актуальна и первостепенно важна также и для буддийской философии во всех её формах и направлениях. В данной работе мы пытаемся сжато разобраться с тем, что же философские школы буддизма говорят о природе реальности, нереальности, сущего, о качестве всего того, что есть? Что они говорят о бытии живых существ (санскр. sattvās)? Упомянутое словосочетание — «живые существа» — традиционно в русскоязычной буддологии используется для перевода санскритского слова sattvās. Английский его перевод, тоже вполне традиционный, не сильно отличается, по сути, от русского варианта: living beings. И русское и английское словосочетания близки по смыслу. Впрочем, не вполне: английское «being» содержит смыслы, не предполагаемые русским словом «существо». Английское «being» — это не только существо, суть, но и бытие, существование, жизнь. Но, несмотря на это, оба перевода явственно, хоть, может быть, и помимо воли, намекают на то, что кроме «живых, живущих существ» (living beings) есть и некие «неживые» (not living), но всё-таки «существа» (beings). Да, именно так — наряду с живыми существами, sattvās, речь заходит здесь и о nirmitās, о некоторым образом сотворённых, созданных существах, о подлинном бытии которых, нельзя даже и поставить вопроса.
Возможно ли на почве буддийской философии формулировать проблемы в духе хайдеггеровских проблем фундаментальной онтологии? Может быть, буддизм — чисто «практическая» наука ума? И главное в нём пребывает за пределами всяких слов и выражений, скрываясь в действии или, наоборот, в полном бездействии? Но сначала попытаемся определить, о чём же мы говорим, говоря о «бытии». Такие слова, как «бытие», «сознание» не представляют ли они из себя вечную загадку, постоянную проблему для понимания? Ведя речь о бытии, конечно же, невозможно пройти мимо онто-герменевтической философии Мартина Хайдеггера. Для Хайдеггера бытие есть подлинная и единственная тема философии. Сама философия для него является ничем иным как теоретически-понятийной интерпретацией бытия, его структуры и возможностей. Но речь у нас сейчас идёт не о том, что конкретно говорил Хайдеггер о Dasein, Sein, Ereignis. Важно для нас здесь другое — хайдегге-ровское возобновление (после длительной эпохи новоевропейского всезнайства с его рационализмом, материализмом, позитивизмом) традиции сократовского знающего незнания, которое есть вéдение сквозь неведение. Хайдеггеровская мысль обладает отрезвляющим качеством «необнали-ченности», неоднозначности, недосказанности, оставляющей простор для возможности возобновлять осмысление. Данное качество чрезвычайно актуально и тогда, когда мы пытаемся, снова и снова, осмыслять онтологическую проблематику буддийской философии или, точнее будет сказать, философий.
В русском языке «бытие» — это существительное, образованное от глагола «быть». Но, благодаря Хайдеггеру, мы знаем, что глагол-связка «быть» и образованное от него существительное «бытие»
представляют собой главную проблему философии и являются самыми тёмными, неопределимыми понятиями, требующими дальнейшего и внимательнейшего разбора1. Слово «бытие» называет то, что трудно уловить при поверхностном взгляде на вещи — сам характер их существования, саму «есть-ность» вещи, «естьность» всех вещей и явлений. И это самое «бытие» может быть разным у разных существ, веществ, вещей и явлений. Бытие человека отличается от бытия дерева, бытие философа, в древнегреческом, платоновском, смысле этого слова, отличается от бытия «не-философа». Древнегреческий философ, не будучи мудрецом (греч. sophos), всё-таки и не невежда, так как стремится к истине и находится, следовательно, в особом отношении к Ней. Философ — это тот, незнающий, который не мнит себя знающим, но на пути вопрошания, на пути диалога с Миром, покуда этот диалог есть, может пребывать в свете безмолвной истины, в просвете Бытия.
Проблема бытия в раннем буддизме
«Ранний буддизм» — это очень разнообразное и разноплановое явление, это большое количество различных философских школ и направлений, дискутировавших между собой по самым различным проблемам и строивших свои самобытные учения и бескомпромиссно опровергавших чужие, как буддийские, так и иные. Здесь мы рассмотрим кратко онтологические основания только одной, но очень влиятельной, философской системы раннего буддизма — школы кашмирских вайбхашиков. Это — одна из сарвастивадинских школ, взгляды которой представлены в трактате великого Васубандху (IV—V в. н. э.) «Абхидхармакоша» (Сокровищница Абхидхармы). Абхидхармакоша — фундаментальнейший труд, преимущественно посвящённый сарвастивадинской Абхидхарме, касающийся также и воззрений такого направления раннего буддизма, как саутрантика. Абхидхармакоша — один из немногих абхидхармист-ских трудов, дошедших до наших дней на том языке, на котором они и был написаны — на санскрите.
Сарвастивада — это сумма различных школ ранней буддийской философии. Эти школы, в первую очередь, занимались изучением и развитием философии Абхидхармы. Считается, что возникла сарва-стивада в III веке до н. э. Основополагающий онтологический принцип сарвастивады — «sarvam asti» (всё, т. е. все дхармы, реально существует). Во фразе сарвам асти — философском девизе данного философского направления — речь идёт о том, что дхармы существуют реально в трёх временах! То есть они на самом деле существуют в прошлом, в настоящем, в будущем. Данное положение, безусловно, требует пояснений и понимать его можно очень по-разному. Например, профессор Карунадаса понимает учение сар-вастивадинов о «трёх-временной» реальности дхарм (Карунадаса использует палийский термин «дхамма», аналогичный санскритскому «дхарма») как «революционное» и интерпретирует его в кантианском духе: «Из этой теории делается не поддающееся эмпирической проверке различение между действительным бытием дхамм как феноменов и их идеальным бытием как ноуменов. Предполагается, что субстанции всех дхамм продолжают существовать во всех трёх делениях времени — в прошлом, в настоящем и в будущем — в то время как их манифестации, в качестве феноменов, мимолётны и подвержены изменению. Соответственно, дхамма осуществляет себя только в настоящем моменте времени, но «в сущности» она продолжает существовать в трёх временных периодах»2. Но сарвастивадинское представление о реальности дхарм в трёх временах можно понимать и иначе, не трансцендентально идеалистически. А именно: дхармы реальны всегда, с точки зрения того, кто смотрит на них, так сказать, «со стороны» или «сверху» — как на непрерывный дхармовый поток. Вероятно, подразумевается взгляд Будды или архата, которые могут влиять на какой-либо (или только свой?) дхармовый поток — на его прошлое, будущее, настоящее. Тогда как для созерцателя более низкого, так сказать, ранга, который пребывает внутри дхармового потока и состоит из него, величайшим достижением будет восприятие мгновенности бытия дхарм. Поскольку, с точки зрения пребывания внутри дхармового потока, подлинной реальностью обладает лишь миг настоящего времени — «кшана» (санскр. kṣaṇa). Согласно различным школам буддийской философии, кшана равняется одной тысячной моргания глаза или одной миллиардной сверкания молнии и т. п.
«Абхидхармакоша» предлагает категориальную онтологическую систему, состоящую из 75 дхарм. В качестве онтологической категории «дхарма» — это определённое умственное, речевое или телесное состояние, это атомарная сущность, которая имеет место и время реально быть. Сумма дхарм всецело объемлет всё сущее и являет собой таблицу элементов сущего без каких-либо возможных добавлений. Влияние сарвастивады на последующую историю буддийской философии огромно. Её абхидхармист-ская философия оказала сильнейшее влияние на многие направления и раннего буддизма, и буддизма махаяны. В махаяне, однако, бытийная сущность дхарм понимается иначе.
Проблема бытия в Махаяне
Философия махаяны в двух своих основных направлениях (мадхьямака и йогачара) представляет собой кардинальный пересмотр многих важнейших концепций раннего буддизма. В отношении воззрения о мгновенности подлинного бытия дхарм, согласно Ф. И. Щербатскому, махаяной был сделан следующий вывод: «Теория о том, что всякое реальное бытие может длиться лишь один момент… была оставлена, и понятие о мгновенной сущности (kṣaṇa), столь характерное для других школ буддийской мысли, также было отброшено как недоказуемое (asiddha) и неспособное противостоять критике»3. Следует заметить, что термин asiddha точнее было бы перевести, как «неточное, неудачное, не обладающее волшебной силой». То есть речь идёт о том, что интерпретации теории дхарм школ раннего буддизма не совершенны с точки зрения мыслителей махаяны, не достаточно эффективны в деле преодоления сансарных состояний. Но сама по себе теория дхарм в махаяне не отменяется. Она лишь получает иное объяснение, даваемое с позиций иного понимания бытия.
Проблема бытия в йогачаре
Йогачара как самостоятельная школа философской мысли возникла примерно в IV в. н. э. Йогачара переводится как «[философия], идущих путём йоги». Философию йогачары называют также виджняна-вадой (учение о познании, о сознании) Но следует отметить, что слово vijñāna, согласно санскритско-русскому словарю В. А. Кочергиной4, не переводится как «сознание». Оно означает: «познание, знание, мудрость, способность познавать». Ещё одно имя йогачары — «читта-матра» (санскр. citta-mātra), что обычно переводят как «только сознание». Здесь подразумевается, что есть «только сознание». Санскритское слово «читта» (citta), впрочем, значит больше, чем только лишь «сознание». Читта — это «ум, мышление, чувство, ощущение, воля, желание, сердце». Матра (санскр. mātra) в качестве конечного элемента сложного слова означает: «величиной, размером с; только». Слово «читта-матра» подразумевает, таким образом, существование только лишь восприятия, в самом объёмном смысле этого слова. Соответственно, йогарины-виджнянавадины-читтаматрины заняты изучением взаимоотношений восприятия (citta) и фактов, явлений восприятия (caitasika). Не существует «внешнего мира» помимо воспринимающего сознания. Согласно виджнянава-динам реально существует только восприятие, состоящее из трёх «уровней»: «1) сознание-хранилище (ālayavijñāna), 2) омрачённый ум (kliṣṭa manas) и 3) функционирующее сознание (pravṛttivijñāna)»5. Также современные исследователи переводят термин «алаявиджняна» как «сознание-сокровищница»6. Ф. И. Щербатской переводил его как «Всесохраняющее сознание»7. Алаявиджняна таит в себе «васаны» (vasanas) — все мысли, впечатления от любого действия, порождающего любую (хорошую, плохую, нейтральную) карму, которые и вызывают также стремления к новым впечатлениям, обретаемым в кармически обусловленном опыте. Клишта манас — это не только «омрачённый», но и «страдающий, претерпевающий» ум. Но manas — это не только «ум», но и «дух, душа, замысел, желание, намерение». Pravṛttivijñāna — «эмпирическое» познание, дающее возможность познавать объекты. Хотя смысл слова pravṛtti шире, он не односложен. Он таков: «развитие, приход, начало, происхождение, наступление весны, деятельность, занятие, длительность, участь, судьба, сведения о чём-л. ». Pravṛttivijñāna состоит из шести познавательных способностей — это пять органов чувств, воспринимающих видимое, звуки, запахи, вкусы, осязания, и умственное познание (mano-vijnana), объектом которого являются дхармы как таковые.
Йогачарины говорят также о трёх видах бытия — о трёх видах сансарного существования живых существ: parikalpita, paratantra, pariniṣpanna. Parika-lpita — именует бытие полностью невежественного, омрачённого существа: «Уровень обыденного сознания описывается теоретиками виджнянавады как профаническое овеществление, экстериоризация сознания: образы, конструируемые индивидом в перцептивной ситуации, осмысляются им как вещи и отождествляются с объектами внешнего мира… виджнянавадины рассматривают такой опыт как воображаемый, а его данные, т. е. дхармы, структурирующие опыт, — как parikalpita («проективно-сконструированные»)»8. Термин parikalpita можно и прямо перевести как «совсем, полностью выдуманный, совсем воображаемый». Речь здесь идёт, вероятно, о типе восприятия потока дхарм, когда сумбур неведения налагает свои интерпретации на переживаемый опыт существования. Дхармы распознаются существом, пребывающим в таком состоянии, неправильно или вообще не распознаются.
Paratantra — это бытие более высокого уровня: «Второй уровень опыта характеризуется процессом осознания внешнего мира в терминах закона взаимозависимого возникновения. Это уже не обыденный, а первично-теоретический опыт, предполагающий созерцание содержаний сознания не как внешних объектов, но именно как структурирующих это содержание дхарм»9. То есть это уровень опыта, переживаемого буддийским йогином, обладающим знанием Абхидхармы и правильно распознающим самскрита-дхармы (дхармы сансары), собственно, и составляющие этот опыт. Следует учитывать, что термин paratantra весьма многозначен и может быть переведён как «высшая, другая сущность, основа», «высшее, другое учение», а не только «зависимый от иного» (такой перевод даётся в нижеследующей цитате). Это уровень вершины сансарного бытия, уровень, с которого возможен переход к следующему уровню опыта — к наивысшему знанию, к нирване. Но, всё же, дхармы, правильно распознаваемые на этом уровне опыта, — это самскрита-дхармы, причинно-обусловленные дхармы, составляющие собой сансару: «Но поскольку все причинно-обусловленное не может считаться реальным ввиду своей временн о й природы, то и дхармы, отражающие нестабильность внешнего мира, также интерпретируются как «не имеющие своего собственного бытия» и именуются виджнянавадинами paratantra («зависимые от иного»)»10.
Pariniṣpanna — наивысшее: «Третий уровень опыта, не различающий субъект и объект, представляет собой… сознание, обращенное на себя, лишенное интенции вовне. Реальность в таком опыте предстает в своей нерасчлененности — как tathatā (букв. «тако-вость»). Она лишена каких бы то ни было признаков и ввиду остановки направленного вербального мышления не может быть поименована. В таком опыте нет разделения на существующее и несуществующее, а, следовательно, дхармы, структурирующие этот опыт, не могут быть определены как имеющие свое собственное бытие (svabhāva). Состояние реализации этого опыта называется pariniṣpanna (букв. «совершенно-завершенное»)»11. Можно перевести: «совсем, полностью готовый». Первые два вида бытия — parikalpita и paratantra — соответствуют уровню saṁvṛti, «относительной», «условной» истины существования, которую Чаттерджи определяет так: «…это простое проявление, нереальное, также как сон или мираж. Оно называется истиной в силу того, что принимается таковой обычными людьми, для которых она только и есть истина»12. Тогда как pariniṣpanna соответствует уровню paramārtha, «абсолютной» истине. Но понятие svabhāva всё же оказывается не приложимо и к данному состоянию полной свободы от цепей сансары, ибо асамскрита-дхармы, дхармы нирваны, создающие это состояние, подлинно пребывают за границами какого-либо называния и наименования.
Проблема бытия в мадхьямаке
Возникновение философии мадхьямаки и вообще махаяны связано с именем великого проповедника Праджняпарамитских сутр Арья-Нагарджуны (Ārya-Nāgārjuna) и датируется приблизительно I—II вв. н. э. С точки зрения мадхьямиков все дхармы — шунья . Поэтому одно из названий философии мадхьямиков — «шуньявада» (учение о шунье). В. П. Андросов в своей книге «Буддизм Нагарджу-ны» даёт перевод трактата «Дхарма-санграха» — справочника-лексикона школы мадхьямиков, содержащего основные философские, мифологические, религиозно-культовые термины, а также списки дхарм13. Набор дхарм «Дхарма-санграхи» подобен списку дхарм «Абхидхармакоши», но и имеет существенные отличия — некоторые дхармы из списка «Абхидхармакоши» отсутствуют, появляются новые дхармы. Здесь всего 72 дхармы, если включить в их состав vijñāna (см. выше) в качестве отдельной дхармы, которая почему-то в данном списке дхарм отсутствует в таком качестве. Суть же позиции шуньява-динов по поводу бытия дхарм В. И. Рудой выражает так: «Реальность дана индивиду через посредство его собственного потока дхарм. Однако дхармы… могут быть рассмотрены исключительно и всецело как номинальные сущности, которым в реальности соответствует нечто, лежащее за пределами дефиниций… Реальность не зависит, следовательно, от форм и способов ее наименования, а значит, эти последние по своей природе пусты (šūnya)»14. Также следует вспомнить о том, что время существования дхарм рассматривается, как пребывающее за пределами обычного человеческого восприятия («биллионная часть сверкания молнии», «одна тысячная длительности моргания глаза» и т. п.). Наше восприятие дхарм не поспевает за движением потока времени, собственно, и состоящего из дхарм. Следовательно, как уже говорилось, восприятие того, что есть на самом деле (идёт ли речь о мгновенном бытии дхарм, о «кшане», или же о «татхате», «шуньяте») — это удел просветлённых личностей.
«Шунья» переводится: «пустой, пустота, лишённый чего-либо, одинокий, необитаемый, пустыня, ничто, отсутствие чего-либо». Термин «шунья» может быть как прилагательным, так и существительным. Термин «шуньята» играет роль только существительного. «Шуньята» — это «пустота, пустынность, недостаток чего-либо, бессмысленность, распыленность». О разнообразии значений этого ёмкого и загадочного понятия, думается, не следует забывать, так же, как не следует торопиться с однозначным его переводом. Традиционно, во многих буддологических работах «шунья» и «шуньята» переводятся как «пустота» или «пу-стотность». Щербатской возражает против этого, указывая, что такое значение данный термин может иметь в обыденной жизни, но не в философии. Он опирается здесь на мнение великого мадхьямика Чандракирти (VII в. н. э.), говоря: «Те же, кто пред- полагает, что šūnya означает пустоту, объявляются не понявшими этот термин и не уразумевшими цель, для которой он вводился»15. Сам Щербатской предлагает переводить шуньяту как «относительность»: «Основная концепция раннего буддизма — идея о множественности конечных элементов (dharma). Основной концепцией махаяны будет их относительность (šūnyatā)»16. Под «относительностью» Щербатской понимает взаимосвязанность дхарм и отсутствие самостоятельного их существования, их нереальность, согласно воззрениям махаяны. Г. Гюнтер предлагает свой перевод, более близкий к распространённому: «nothing, nothingness» — «ничто, ничтойность», «openness» — «открытость»17. Д. Сингх приводит, без каких-либо, впрочем, обоснований, следующее мнение о происхождении этого слова: «Этимологически оно происходит от корня «švi», что означает «увеличиваться, расширяться» (to swell, to expand — С. Б., В. К.)»18. Но возможна и иная родословная этого фундаментального онтологического понятия махаяны. Итак, какие смысловые значения ещё можно разглядеть в слове «šūnya»? Во-первых: «нехватку бытия (яви)». Предположим, что санскритский слог «ya / yā» обладал когда-то тем же смыслом и обладает общим индоевропейским происхождением и схожим звучанием со старым русским словом «явь». Современное прочтение этих древних слов-слогов таково: ya — «который»; yā — «1) идти, проходить 2) отправляться». Русской «яви» противополагалась «навь» — не-явь. В некоторых русских диалектах слово «навь» означает «покой-ник»19. Санскритская отрицательная частица «mā» в сочетании со слогом «yā» дают «māyā» — иллюзию, обман, нереальность, не-явь. Или же «māyā» — это некая не-проходимость, препятствование.
Слово «šūna» является причастием страдательного залога прошедшего времени как от вышеуказанного Д. Сингхом глагола «švi», так и от глагола «sū», значение которого — «производить, давать (урожай), порождать». В этом втором значении «šūna» есть «недостаток, нехватка». Осмелимся предположить, что слово «šūnya» может обладать и таким значением: «недостаток, нехватка яви», то есть недостаточность бытия. «Шунья» указывает на то, что нечто не вполне реально, не есть в полной мере. Русское слово «пустота», действительно, не вполне пригодно для перевода термина «шунья», поскольку в русском языке слово «пустота» подразумевает в первую очередь сущностное отсутствие чего-либо. Но в случае с шуньей, на что и указывает этимология Д. Сингха, возможен и иной, прямо противоположный, акцент при истолковании данного термина: «расширение, увеличение яви». Слово «шунья» содержит в себе парадокс, два противоположных смысла — полнота, увеличение бытия и нехватка, недостаток бытия. Что это значит? Предполагалась ли такая словесная игра авторами трактатов по мадхьямаке? А почему бы и нет? Трактаты Нагарджуны, что является традиционным для индийской философии, были написаны не прозой, а стихами! Поэтическая мысль обязана играть разнообразными оттенками смысла и подразумевать сразу многое в одном. Д. Сингх с опорой на текст Арья-Нагарджуны предлагает такую интерпретацию «шунья-таттвы» — «истины шуньи»:
«В онтологическом смысле šūnya есть пустота, которая так же полнота (о чем, собственно, и говорит опыт нашего этимологизирования — С. Б., В. К. ). Поскольку это не является чем-либо в отдельности, это является возможностью чего угодно. Шунья идентифицируется с нирваной, с Абсолютом, с Парамартха-сат (Высшей Реальностью), с Таттва (Действительностью). Что есть šūnya-tattva? Вот что о характеристиках шуньи говорит Арья-Нагарджуна:
Aparapratyayaṁ šāntaṁ prapañcair aprapañcitaṁ Nirvikalpam anānārtham etattattvasya lakṣaṇaṁ [Mūlamadhyamakakārikās, XVIII, 9]
-
(1) Это — «aparapratayam». Это такой опыт, который не может быть передан от одного к другому. Он должен быть реализован каждым самим для себя.
-
(2) Это — šāntam. Это умиротворенность, не затронутая эмпирическим умом.
-
(3) Это — prapañcair aprapañcitam, то есть то, что невыразимо посредством вербализирующего ума. Это неопределимое.
-
(4) Это — nirvikalpam, то есть то, что за пределами дискурсивной мысли.
-
(5) Это — anānārtham. Это не-двойственное»20.
Итак, истина шуньи познается на собственном опыте, она словесно и даже мысленно невыразима, но является глубокой внутренней умиротворенностью, находится за пределами дискурсивной мысли, она недвойственна и неопределима. В различных буддийских текстах приводится 16, 18, 20 или 22 вида шуньяты. Перечень видов шуньяты охватывает все основные категории индийской буддийской и небуддийской философии, основные параметры описания мира в рамках традиционной индийской учености. Речь идёт, в том числе, и о «асамскрита-дхармах», о дхармах нирваны. И они тоже — шунья.
Таким образом, мадхьямака указывает и на словесно невыразимый характер природы реаль- ности, но также и оставляет простор для вечного возобновления вопроса о бытии на почве своей философии.
Примечания
-
1. См.: Хайдеггер М. Бытие и время. — М. : Ad Mar-ginem, 1997. — С. 3—4.
-
2. Karunadasa Dr. Y. The dhamma theory. Philosophical Cornerstone of the Abhidhamma. — The Wheel Publication №. 412/413. — С. 9.
-
3. Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму. — М. : Наука, 1988. — С. 240—241.
-
4. См.: Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь. — М. : Русский язык, 1987. — 943 с.
-
5. Чаттерджи А. К. Идеализм йогачары. — М. : Ше-чен, 2004. — С. 90.
-
6. Рудой В. И. Введение в буддийскую философию // Васубандху. Абхидхармакоша. Раздел I, II. — М. : Ладо-мир, 1998. — С. 89.
-
7. Щербатской Ф. И. Указ. соч. — С. 230.
-
8. Рудой В. И. Указ. соч. — С. 90.
-
9. Там же. — С. 91.
-
10. Там же.
-
11. Там же.
-
12. Чаттерджи, А. К. Указ. соч. — С. 154.
-
13. См.: Андросов В. П. Собрание основоположений Закона («Дхарма-санграха») // В. П. Андросов Буддизм Нагарджуны: Религиозно-философские трактаты. — М. :Восточная литература РАН, 2000. — С. 451—608.
-
14. Рудой В. И. Указ. соч. — С. 79—80.
-
15. Щербатской Ф. И. Указ. соч. — С. 243.
-
16. Там же. — С. 241.
-
17. См.: Guenther H. V. The Royal Song of Saraha. A Study in the History of Buddhist Thought. — University of Washington Press, 1969. — 210 p.
-
18. Singh J. An Introduction to Madhyamaka philosophy. — Delhi, 1976. — P. 36.
-
19. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. — М. : Советская Энциклопедия, 1990. — C. 596.
-
20. Singh, J. Cit. opus. — P. 37.
Список литературы Проблема бытия в буддийской философии
- Хайдеггер М. Бытие и время. -М.: Ad Маrginem, 1997. -С. 3^.
- Karanadasa Dr. Y. The dhamma theory. Philosophical Cornerstone of the Abhidhamma. -The Wheel Publication №.412/413.-С 9.
- Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму. -М.: Наука, 1988. -С. 240-241.
- Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь. -М.: Русский язык, 1987. -943 с.
- Чаттерджи А. К. Идеализм йогачары. -М.: Шечен, 2004. -С. 90.
- Рудой В. И. Введение в буддийскую философию//Васубандху. Абхидхармакоша. Раздел I, П. -М.: Ладомир, 1998.-С. 89.
- Андросов В. П. Собрание основоположений Закона («Дхарма-санграха»)//В. П. Андросов Буддизм Нагарджуны: Религиозно-философские трактаты. -М.:Восточная литература РАН, 2000. -С. 451-608.
- Guenther Н. V. The Royal Song of Saraha. A Study in the History of Buddhist Thought. -University of Washington Press, 1969. -210 p.
- Singh J. An Introduction to Madhyamaka philosophy.-Delhi, 1976.-P. 36.
- Лингвистический энциклопедический словарь/гл. ред. В. Н. Ярцева. -М.: Советская Энциклопедия. 1990.-С. 596.